|
|
|
|
|
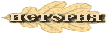 |
|
Стр.3
|
|
|
|
|
Украинская националистическая и
советская марксистская историография до того затуманили и
замутили картину казачьих бунтов конца ХVI
и первой половины ХVII
века, что простому читателю
трудно бывает понять их подлинный смысл. Меньше всего подходят
они под категорию «национально-освободительных» движений.
Национальной украинской идеи в то время в помине не было. Но и
«антифеодальными» их можно назвать лишь в той степени, в какой
принимали в них участие крестьяне, бежавшие на Низ в поисках
избавления от нестерпимой крепостной неволи. Эти крестьяне были
величайшими мучениками Речи Посполитой. Иезут Скарга — яростный
гонитель и ненавистник православия и русской народности,
признавал, что нигде в мире помещики не обходятся более
бесчеловечно со своими крестьянами, чем в Польше «Владелец или
королевский староста не только отнимает у бедного хлопа все, что
он зарабатывает, но и убивает его самого когда захочет и как
захочет, и никто не скажет ему за это дурного слова».
Крестьянство
изнемогало под бременем налогов и барщины; никаких трудов не
хватало оплачивать непомерное мотовство и роскошь панов.
Удивительно ли, что оно готово было на любую форму борьбы со
своими угнетателями? Но нашедши такую готовую форму в казачьих
бунтах, громя панские замки и фольварки, мужики делали не свое
дело, а служили орудием достижения чужих выгод. Холопская ярость
в борьбе с поляками всегда нравилась казачеству и входила в его
расчеты. Численно, казаки представляли ничтожную группу; в самые
хорошие времена она не превышала 10.000 человек, считая
реестровых и сечевиков вместе. Они никогда, почти, не
выдерживали столкновений с коронными войсками Речи Посполитой.
Уже в самых ранних казачьих восстаниях наблюдается стремление
напустить прибежавших за пороги мужиков на замки магнатов. Но
механизм и управление восстаниями находились, неизменно, в
казачьих руках, и казаки добивались не уничтожения крепостного
порядка, но старались правдами и неправдами втереться в
феодальное сословие. Не о свободе шла тут речь, а о привилегиях.
То был союз крестьянства со своими потенциальными
поработителями, которым удалось, с течением времени, прибрать
его к рукам, заступив место польских панов,
Конечно,
запорожцам предстояло, рано или поздно, — либо быть
раздавленными польской государственностью, либо примириться с
положением особого воинского сословия, наподобие позднейших
донцов, черноморцев, терцев, если бы не грандиозное всенародное
восстание 1648 г., открывшее казачеству возможности, о которых
оно могло лишь мечтать. «Мне удалось совершить то, о чем я
никогда и не мыслил» — признавался впоследствии Хмельницкий.
Выступления
мужиков поляки боялись гораздо больше, чем казаков. «Число его
сообщников простирается теперь до 3.000, — писал королю гетман
Потоцкий по поводу выступления Хмельницкого. — Сохрани Бог, если
он войдет с ними в Украйну, тогда эти три тысячи возрастут до
ста тысяч». Уже первая битва при Желтых Водах выиграна была
благодаря тому, что служившие у Стефана Потоцкого русские
жолнеры перешли на сторону Богдана. В битве под Корсунем
содействие и помощь русского населения выразились в еще большей
степени. К Хмельницкому шли со всех сторон, так что войско его
росло с необыкновенной быстротой. Под Пилявой оно было столь
велико, что первоначальное ядро его, вышедшее из Запорожья,
потонуло в толпе новых ополченцев. Когда в самый разгар
восстания была собрана рада в Белой Церкви, на нее явилось свыше
70.000 человек. Никогда доселе казацкое войско не достигало
подобной цифры. Но она далеко не выражает всего числа
восставших. Большая часть шла не с Богданом, а рассыпалась в
виде так называемых «загонов» по всему краю, внося ужас и
опустошение в панские поместья. Загоны представляли собою
громадный орды под начальством какого ни будь Харченко Гайчуры
иди Лисенко Вовгуры. Поляки так их боялись, что один крик
«вовгуровцы идут» повергал их в величайшее смятение.
На Подоле
свирепствовали загоны Ганжи, Остапа Павлюка, Половьяна,
Морозенко. Каждый из этих отрядов представлял солидное войско, а
некоторые могли, по тем временам, почитаться громадными армиями.
«Вся эта сволочь, — по выражению польского современника, —
состояла из презренного мужичья, стекавшегося на погибель панов
и народа польского».
«Было время, —
говорил гетман Сапега, — когда мы словно на медведя ходили
укрощать украинские мятежи; тогда они были в зародыше, под
предводительством какого ни будь Павлюка; теперь иное дело! Мы
ополчаемся за веру, отдаем жизнь нашу за семейства и достояние
наше. Против нас не шайка своевольников, а великая сила целой
Руси. Весь народ русский из сел, деревень, местечек, городов,
связанный узами веры и крови с казаками, грозит искоренить
шляхетское племя и снести с лица земли Речь Посполитую».
Чего в течении полустолетия не могло добиться
ни одно казачье восстание, было в несколько недель сделано
«презренным мужичьем» — панская власть на Украине сметена точно
ураганом. Мало того, всему польскому государству нанесен удар,
повергший его в состояние беспомощности. Казалось, еще одно
усилие и оно рухнет. Не успела Речь Посполитая опомниться от
оглушительных ударов при Желтых Водах и под Корсунем, как
последовала ужасающая катастрофа под Пилявой, где цвет польского
рыцарства обращен в бегство, как стадо овец, и был бы безусловно
истреблен, если бы не богатейший лагерь, грабежом которого
увлеклись победители, прекратив преследование. Это поражение,
вместе с повсеместной резней панов, ксендзов и евреев, вызвало
всеобщий ужас и оцепенение. Польша лежала у ног Хмельницкого.
Вздумай он двинуться со своими полчищами вглубь страны, он до
самой Варшавы не встретил бы сопротивления. Если бывают в жизни
народов минуты, от которых зависит все их будущее, то такой
минутой для украинцев было время после пилявской победы.
Избавление от рабства, уничтожение напора воинствующего
католичества, полное национальное освобождение — все было
возможно и достижимо в тот миг. Народ это инстинктивно
чувствовал и горел желанием довести до конца дело свободы. К
Хмелницкому со всех сторон неслись крики: «Пане Хмельницкий,
веди на ляхив, кинчай ляхив!».
Но тут и
выяснилась разница между чаяниями народа и устремлениями
казачества. Повторилось то, что наблюдалось во всех предыдущих
восстаниях, руководимых казаками: циничное предательство мужиков
во имя специально казачьих интересов.
Возглавивший, волею случая, ожесточенную
крестьянскую войну, Хмельницкий явно принял сторону иноземцев и
иноверцев помещиков против русских православных крестьян. Он не
только не пошел на Варшаву и не разрушил Польши, но придумал
обманный для своего войска маневр, двинувшись на Львов и потом
долго осаждая, без всякой надобности, Замостье, не позволяя его,
в то же время, взять. Он вступил в переговоры с поляками насчет
избрания короля, послал на сейм своих представителей, дал
торжественное обещание повиноваться приказам нового главы
государства и, в самом деле, прекратил войну и отступил к Киеву
по первому требованию Яна Казимира.
Для хлопов это было полной неожиданностью. Но
их ждал другой удар: еще не достигнув Киева, где он должен был
дожидаться посланников короля, гетман сделал важное политическое
заявление, санкционировавшее существование крепостного права в
Малой России. В обращенном к дворянству универсале, он выражал
пожелание «чтобы сообразно воле и приказанию его королевского
величества, вы не замышляли ничего дурного против нашей
греческой религии и против ваших подданных, но жили с ними в
мире и содержали их в своей милости»
28.
Мужиков возвращали опять в то состояние, из которого они только
что вырвались.
Измена продолжалась и при новом столкновении
с Польшей, в 1649 г. Когда крестьянская армия под Зборовом
наголову разбила королевское войско, Хмельницкий не только не
допустил пленения короля, но преклонил перед ним колени и
заключил договор, который был вопиющим предательством
малороссийского народа. По этому договору, Украина оставалась по
прежнему под польской владой, а об отмене крепостного права не
было сказано ни слова. Зато казачество возносилось на небывалую
высоту. Состав его увеличивался до 40.000 человек, которые
наделялись землей, получали право иметь двух подпомощников и
становились на заветный путь постепенного превращения в
«лыцарей». Старшина казачья приобретала право владеть «ранговыми
маетностями» — особым фондом земель, предназначенным для
пользования чинов казачьего войска на то время, пока человек
занимал соответствующую должность. Самое войско казачье могло
теперь смотреть на себя, как на войско короля и Речи Посполитой
в русских землях; недаром Богданов посланный сказал, однажды,
гетману Потоцкому: «Речь Посполитая может положиться на казаков;
мы защищаем отечество». Гетман казацкий получал все чигиринское
староство с городом Чигирином «на булаву», да к этому прихватил
еще богатое местечко Млиев, доставлявшее своему прежнему
владельцу, Конецпольскому, до 200.000 талеров дохода
29.
Но Зборовским условиям так и не пришлось
стать действительностью. Крестьянство не мирилось с положением,
при котором лишь 40.000 счастливцев получат землю и права
свободных людей, а вся остальная масса должна оставаться в
подневольном состоянии. Крестьяне вилами и дубинами встречали
панов возвращавшихся в свои имения, чем вызвали шумные протесты
поляков. Гетману пришлось, во исполнение договора, карать
ослушников смертью, рубить головы, вешать, сажать на кол, но
огонь от этого не утихал. Казни раскрыли народу глаза на роль
Богдана и ему, чтобы не лишиться окончательно престижа, ничего
не оставалось, как снова возглавить народное ополчение,
собравшееся в 1652 г. для отражения очередного польского
нашествия на Украину.
В исторической литературе давно отмечено, что
страшное поражение, постигшее на этот раз русских под
Бересетчком, было прямым результатом антагонизма между казаками
и крестьянством.
***
Здесь не место
давать подробный рассказ о восстании Хмельницкого, оно описано
во многих трудах и монографиях. Наша цель — обратить внимание на
нерв событий, ясный для современников, но необычайно затемненный
историками ХIХ-ХХ в.в. Это важно, как для того, чтобы понять
причину присоединения Украины к Московскому Государству, так и
для того, чтобы понять, почему на другой же день после
присоединения там началось «сепаратистское» движение.
Москва, как известно, не горела особенным
желанием присоединить к себе Украину. Она отказала в этом
Киевскому митрополиту Иову Борецкому, отправившему в 1625 г.
посольство в Москву, не спешила отвечать согласием и на слезный
челобитья Хмельницкого, просившего неоднократно о подданстве.
Это важно иметь в виду, когда читаешь жалобы самостийнических
историков на «лихих соседей», не позволивших, будто бы,
учредиться независимой Украине в 1648-1654 г.г. Ни один из этих
соседей — Москва, Крым, Турция — не имели на нее видов и никаких
препятствий ее независимости не собирались чинить. Что же
касается Польши, то после одержанных над нею блестящих побед, ей
можно было продиктовать любые условия. Не в соседях было дело, а
в самой Украине. Там, попросту, не существовало в те дни идеи
«незалежности», а была лишь идея перехода из одного подданства в
другое. Но жила она в простом народе — темном, неграмотном,
непричастном ни к государственной, ни к общественной жизни, не
имевшем никакого опыта политической организации. Представленный
крестьянством, городскими жителями — ремесленниками и мелкими
торговцами, он составляя самую многочисленную часть населения,
но вследствие темноты и неопытности, роль его в событиях тех
дней заключалась только в ярости, с которой он жег панские замки
и дрался на полях сражений. Все руководство сосредотачивалось в
руках казачьей аристократии. А эта не думала ни о независимости,
ни об отделении от Польши. Ее усилия направлялись, как раз, на
то, чтобы удержать Украину под Польшей, а крестьян под панами,
любой ценой. Себе самой она мечтала получить панство, какового
некоторые добились уже в 1649 г., после Зборовского мира.
Политика казачества, его постоянные
предательства были причиной того, что победоносная, вначале,
борьба стала оборачиваться, под конец, неудачами для Украины.
Богдан и его приспешники постоянно твердили одно и то же: «
Нехай кождый з своего тишится, нехай кождый своего глядит —
казак своих вольностей, а те, которые не приняты в реестр,
должны возвращаться к своим панам и платить им десятую копу».
Между тем, по донесениям московских осведомителей, «те де казаки
по-прежнему у пашни быть не хотят, а говорят что они вместе все
за христианскую веру стояли, кровь проливали»
30.
Удивительно ли, что измученный изменами,
изверившийся в своих вождях, народ усматривал единственный выход
в московском подданстве? Многие, не дожидаясь политического
разрешения вопроса, снимались целыми селами и поветами и
двигались в московские пределы. За каких ни будь полгода выросла
Харьковщина — пустынная прежде область, заселенная теперь сплошь
переселенцами из польского государства.
Такое стихийное тяготение народной толщи к
Москве сбило планы и расстроило всю игру казаков. Противостоять
ему открыто они не в силах были. Стало ясно, что народ пойдет на
что угодно, лишь бы не остаться под Польшей. Надо было либо
удерживать его по-прежнему в составе Речи Посполитой и сделаться
его откровенным врагом, либо решиться на рискованный маневр —
последовать за ним в другое государство и, пользуясь
обстоятельствами, постараться удержать над ним свое господство.
Избрали последнее.
Произошло это не без внутренней борьбы. Часть
матерых казаков во главе с Богуном откровенно высказалась на
Тарнопольской раде 1653 г. против Москвы, но большая часть, видя
как «чернь» разразилась восторженными криками при упоминании о
«царе восточном», приняла сторону хитрого Богдана. Насчет
истинных симпатий Хмельницкого и его окружения двух мнений быть
не может — это были полонофилы; в московское подданство шли с
величайшей неохотой и страхом. Пугала неизвестность казачьих
судеб при новой власти. Захочет ли Москва держать казачество,
как особое сословие, не воспользуется ли стихийной приязнью к
себе южно-русского народа и не произведет ли всеобщего уравнения
в правах, не делая разницы между казаком и вчерашним хлопом?
Свидетельством такого тревожного настроения явилась идея
крымского и турецкого подданства, сделавшаяся вдруг популярной
среди старшины в самый момент переговоров с Москвой. Казачьей
элите она сулила полное бесконтрольное хозяйничанье в крае под
покровительством такой власти, которая ее совсем бы не
ограничивала, но от которой можно всегда получить защиту.
В середине 1653 года, Иван Выговский
рассказывал царским послам о тайной раде, на которой
присутствовали одни полковники, да высшие войсковые чины. Там
обсуждался вопрос о турецком подданстве. Все полковники на него
согласились за исключением киевского Антона Ждановича, да самого
Выговского. Подчеркивая свое москвофильство, Выговский нарисовал
довольно бурную сцену: «И я гетману и полковником говорил: хто
хочет тот поддавайся турку, а мы едем служить великому государю
христианскому и всем черкасом вашу раду скажем, как вы забыли
Бога так делаете. И гетман де меня за то хотел казнить. И я де
увидя над собою такое дело, почал давать приятелем своим
ведомость, чтоб они до всего войска доносили тою ведомость. И
войско де, сведав про то, почали говорить: все помрем за
Выговского, кроме ево нихто татарам не смеет молыть»
31.
Так ли, на самом деле, вел себя Выговский — неизвестно; вернее
всего, рисовался перед московскими послами, но факт описанного
им сборища вполне вероятен.
Турецкий проект — свидетельство смятения
казацких душ, но вряд ли кто из его авторов серьезно верил в
возможность его осуществления, по причине одиозности для народа
турецко-татарского имени, а также потому, что народ уже сделал
свой выбор. Роман Ракушка-Романовский, известный под именем
Самовидца, описывая в своей летописи переяславское
присоединение, с особым старанием подчеркнул его всенародный
характер: «По усией Украине увесь народ с охотой тое учинил».
То был критический момент в жизни казачьей
старшины и можно понять нервозность, с которой она старалась
всеми способами получить от царских послов документы
гарантирующие казачьи вольности. Явившись к присяге, старшина и
гетман потребовали, вдруг, чтобы царь в лице своих послов
присягнул им с своей стороны и выдал обнадеживающие грамоты.
«Николи не бывало и впредь не будет, — сказал стольник Бутурлин,
— и ему и говорить о том было непристойно, потому что всякий
подданный повинен веру дати своему государю»
32.
Он тут же, в церкви, объяснил Хмельницкому недопустимость такой
присяги с точки зрения самодержавного принципа. Столь же
категорический ответ был дан через несколько дней после присяги,
когда войсковой писарь И. Выговский с полковниками явился к
Бутурлину с требованием «дать им письмо за своими руками, чтобы
вольностям и маетностям быть по прежнему». При этом, послам было
сказано, что если они «такова письма не дадут и стольником де и
дворяном в городы ехать не для чево, для того что всем людей в
городех будет сумление»
33.
Это означало угрозу срыва кампании по приведению к присяге
населения Малороссии. Послов пугали опасностью передвижения по
стране, вследствие разгула татарских шаек. Послы не испугались и
ни на какие домогательства не поддались, назвав их
«непристойными». «Мы вам и преж сего сказывали, что царское
величество вольностей у вас не отнимает и в городех у вас указал
государь до своего государева указу быть попрежнему вашим
урядником и судитца по своим правам и маетностей ваших отнять
государь не велит». Бутурлин настаивал лишь на том, чтобы
казаки, вместо требования гарантийного документа, обратились к
царю с челобитьем. Просимые блага могут быть получены только
путем пожалования со стороны монарха.
Не будем здесь вдаваться в рассмотрение
самостийнической легенды о так называемой «переяславской
конституции», о «переяславском договоре»; она давно разоблачена.
Всякого рода препирательства на этот счет могут сколько угодно
тянуться в газетных статьях и в памфлетах — для науки этот
вопрос ясен. Источники не сохранили ни малейшего указания на
документ похожий хоть в какой-то степени на «договор»
34.
В Переяславле в 1654 г. происходило не заключение трактата между
двумя странами, а безоговорочная присяга малороссийского народа
и казачества царю московскому, своему новому суверену.
Не обещавший ничего в момент принятия
присяги, царь оказался потом необычайно щедрым и милостивым к
своим новым подданным. Ни одна, почти, их просьба не осталась
без удовлетворения. Сущей неправдой должно быть объявлено
утверждение М. С. Грушевского, будто «далеко не все эти желания
были приняты московским правительством». Москва дала уклончивый
ответ только на просьбу о жаловании запорожскому войску. Бояре,
при этом, ссылались на частный разговор Хмельницкого с
Бутурлиным в Переяславле, в котором гетман сказал, что на
жаловании не настаивает. Москва, однако, вовсе не отказалась
платить казакам, она лишь хотела, чтобы жалованье шло из тех
сумм, что будут собираться с Украины в царскую казну, и потому
откладывала этот вопрос до упорядочения общих фискальных дел.
Городам, хлопотавшим перед царем об
оставлении за ними магдебургского права, оно было предоставлено,
духовенство, просившее о земельных пожалованиях и о сохранении
за собою прежних владений и прав, — получило их, остатки
уцелевшей шляхты получили подтверждение своих старинных
привилегий. Казачеству предоставлено было все, о чем оно «било
челом». Реестр казачий сохранен и увеличен до небывалой цифры —
60.000 человек, весь старый уряд сохранен полностью, оставлено
право выбирать себе старшину и гетмана, кого захотят, только с
последующим доведением до сведения Москвы. Разрешено было
принимать и иностранные посольства.
Царское правительство предоставило широкую
возможность каждому из сословий ходатайствовать об установлении
наилучших для себя условий и порядков. Такие ходатайства
поступили от городов (через гетмана), от духовенства, от
казачества. Только голос крестьянства — самого многочисленного,
но, в то же время, самого темного и неорганизованного класса, не
раздался ни разу и не был услышан в Москве.
Произошло это в значительной мере оттого, что
казачество заслонило от нее крестьянство. Это было тем легче
сделать, что само крестьянство ничего так не хотело, как
называться казаками. Как до Хмельницкого, так и при нем, оно шло
в казачьи бунты с единственной целью избавиться от панской
неволи. Попасть в казачье сословие, значит стать свободным
человеком. Оттого все сотни тысяч мужиков, поднявшихся в
1648-1649 г. г., так охотно именовали себя казаками, брили
головы и надевали татарские шаровары, и оттого подняли они
возмущенный вопль, когда узнали, что зборовский трактат
возвращает их в прежнее мужицкое состояние, взявши в казачий
парадиз всего 40.000 счастливцев. По донесениям московских
пограничных воевод, расспрашивавших украинских беженцев, можно
составить себе представление о необычайной давке, создавшейся
вокруг реестрования. Каждый хотел попасть в список и ничего не
жалел для этого. Гетман сделал из этого источник собственного
обогащения, «имал с тех людей, которых писал в реестр, золотых
червонных по 30-ти и по 40-ку и больше. Хто ково больше мог
дать, того и в рейстр писал, для того, что никто в холопстве
быть по прежнему не хотел»
З5.
Крестьяне, в момент присоединения к Москве не
выступили как сословие и не сформулировали своих пожеланий
потому что отождествили себя с казаками, наивно полагая, что
этого достаточно, чтобы не числиться мужиками. Московскому же
правительству трудно было разобраться в тогдашней обстановке.
Подводя итог челобитьям и выданным в ответ на
них царским грамотам, исследователи приходят к заключению, что
внутреннее устройство и социальные отношения на Украине после
переяславского присоединения установились такие, каких хотели
сами малороссы. Царское правительство формировало это устройство
в соответствии с их просьбами и пожеланиями. Казаки хотели
оставить все так, «как при королях польских было». Лично Б.
Хмельницкий, в разговоре с Бутурлиным, выразил пожелание, чтобы,
«кто в каком чину был по ся места и ныне бы государь пожаловал,
велел быть по тому, чтоб шляхтич был шляхтичем, а казак казаком,
а мещанин мещанином; а казаком бы не судитца у полковников и
сотников». То же было выражено и письменно в челобитной царю:
«права, уставы, привилеи и всякие свободы... елико кто имяше от
веков от князей и панов благочестивых и от королей польских...
изволь твое царское величество утвердить и своими грамотами
государскими укрепити навеки»
36.
В подтверждении этих своих пожеланий и челобитий, гетман прислал
в Москву копии жалованных грамот польских королей. И эти
грамоты, и собственные просьбы казаков выражали взгляд на них,
как на сословие, а весь их «устрий» мыслился, как внутренняя
сословная организация. Соответствующим образом и гетманская
власть понималась, как власть военная, распространявшаяся только
на войско запорожское, но не имевшая никакого касательства к
другим сословиям и вовсе не призванная управлять целым краем.
***
До 1648 года казачество было явлением
посторонним для Украины, жило в «диком поле», на степной
окраине, вся же остальная Малороссия управлялась польской
администрацией. Но в дни восстания польская власть была изгнана,
край оказался во власти анархии и для казаков появилась
возможность насаждать в нем свои запорожские обычаи и свое
господство. Картина их внедрения темна, как по недостатку
источников, так и по неуловимости самого явления. За шесть
ужасных лет, когда непрестанно горели села и города, татарские
шайки охотились за людьми и тысячами уводили в Крым, когда
гайдамаки с одной стороны, польские карательные отряды, с
другой, превращали в пустыни целые местности, когда огромные
территории переходили из рук в руки — трудно было установиться
какой либо администрации, Историческое исследование до сих пор
не касалось этого вопроса. Если искать в тогдашней Малороссии
подобия управления, то это было, вернее всего, то, что принято
называть «законами военного времени», т. е. воля начальника
армии или воинского отряда, занимавшего ту или иную территорию.
В силу своего военного опыта и
организованности, казаки завладели всеми важными постами в
народном ополчении, придав ему свое запорожское устройство,
подразделения, обозначения, свою субординацию. Потому казацкие
чины — полковники, сотники — явились властью также для
малороссийского населения тех мест, которые были заняты их
отрядами. И над всеми стоял гетман войска запорожского с
войсковой канцелярией, генеральным писарем, обозным, войсковым
судьей и прочей запорожской старшиной. Выработанная и
сложившаяся в степи для небольшой самоуправляющейся
военно-разбойничьей общины, система эта переносилась теперь на
огромную страну с трудовым оседлым населением, с городами
знавшими магдебургское право.
Как действовала она на практике, мы не знаем,
но можно догадываться, что «практика» меньше всего руководилась
правовым сознанием, каковое не было привито степному
«лыцарству», воспитанному в антигосударственных традициях.
Пока существовала надежда удержать Малую Русь
под польским владычеством, гетман и его окружение рассматривали
свою власть в ней, как временную. Зборовский и Белоцерковский
трактаты не оставляют места ни для какой гетманской власти на
Украине после ее замирения и возвращения под королевскую руку.
Положение казачества и его предводителей, согласно этим
трактатам, значительно улучшается, оно увеличивается в числе,
ему предоставляется больше прав и материальных средств, но оно
попрежнему не мыслится ничем, кроме особого вида войска Речи
Посполитой. Гетман — его предводитель, но отнюдь не правитель
области, он лицо военное, а не государственно-административное.
Такой же взгляд внушала старшина и царским послам в Переяславле
в дни присоединения к Московскому государству. Верховной властью
в крае считалась отныне власть царская. Это было до такой
степени всем понятно, что ни Богдану, ни старшине, ни кому бы то
ни было из тогдашних малороссиян, в голову не приходило
ходатайствовать перед царем о создании краевого правительства
или какой ни будь автономной, местной по своему происхождению,
административной власти. Такой мысли не высказывалось даже в
устных разговорах с Бутурлиным. По словам Д. М. Одинца, очень
авторитетного, историка, «кроме московского государя, акты 1654
г. не предусматривали существования на территории Украины
никакого другого общегосударственного органа власти»
37.
***
Но в ученой литературе поднят, с некоторых
пор, вопрос: неужели казаки, пришедшие в московское подданство в
качестве фактических хозяев Малороссии, так таки ни разу и не
пожалели об утрате своего первенствующего положения? Почему ни в
одной челобитной, ни в одном разговоре нет намека на желание
продолжать управление страной? Некоторые исследователи (В. А.
Мякотин, Д. М. Одинец), объясняют это консерватизмом старшины и
гетмана, не сумевших за шесть бурных лет осознать перемены
происшедшей в их положении и продолжавших держаться за старую
форму казачьих выгод. Вряд ли можно согласиться с таким
соображением. Хмельницкому, сказавшему однажды в подпитии: «Я
теперь единовладный самодержец русский» (это было еще в первый
период восстания, в конце 1648 г.) — конечно ясна была его
общекраевая роль. Понимала ее и старшина. Если, тем не менее, в
Переяславле о ней не было сказано ни слова, то в этом надо
видеть не близорукость, а как раз наоборот — необычайную
дальновидность и тонкое знание политической обстановки.
Хмельницкий знал, что ни на какое умаление своих суверенных прав
Москва не пойдет; а выдвигать идею гетманской власти значило,
покушаться на ее верховные права. Всякая заминка в деле
воссоединения могла дорого обойтись Богдану и казачьей верхушке,
в виду категорического требования народа, не желавшего ни о чем
слышать, кроме присоединения к Москве. Гетман и без того замаран
был своей крепостнической полонофильской политикой. Он мог разом
лишиться всего, что с таким трудом завоевал в течение шести лет.
Нам сейчас ясно, что если бы московское правительство лучше
разбиралось в социальной обстановке тех дней, оно могло бы
совершенно игнорировать и гетмана, и старшину, и все вообще,
казачество, опираясь на одну народную толщу. Старшина это
отлично понимала и этим объясняется ее скромность и
сговорчивость в Переяславле. Она не оспаривала царского права
собирать налоги с Малороссии. Напротив, Хмельницкий сам внушал
Бутурлину, «чтобы великий государь, его царское величество
указал с городов и мест, которые поборы наперед сего бираны на
короля и на римские кляшторы и на панов, собирать на себя». То
же говорил генеральный писарь Выговский, предлагая скорей
прислать налоговых чиновников для производства переписи.
Единственно, о чем просил Хмельницкий, это, чтобы сбор податей в
царскую казну предоставить местным людям, дабы избежать
недоразумений между населением и московскими чиновниками,
непривычными к малороссийским порядкам и малороссийской
психологии. Москве эта просьба показалась вполне резонной и была
удовлетворена без возражений.
Боярам, конечно, в голову не приходило, какое
употребление сделают из нее казаки. Оставаясь верными своей
степной природе добытчиков они никогда не приносили реальных,
практических выгод в жертву отвлеченным принципам. «Суверенные
права», «национальная независимость» не имели никакой цены в
сравнении с фактической возможностью управлять страной,
распоряжаться ее богатствами, расхищать земли, закабалять
крестьян. О национальной независимости они даже не думали, как
потому, что в то время никто не знал, что с нею делать, так и по
причине крайней опасности этой материи для казачьего
благополучия. В независимой Украине казаки никогда бы не смогли
превратиться в правящее сословие, тем более — сделаться
помещиками. Революционное крестьянство, только что вырвавшееся
из панского ярма и не собиравшееся идти ни в какое другое,
хлынуло бы целиком в казаки и навсегда разрушило
привилегированное положение этого сословия. Но казачество не для
того наполнило половину столетия бунтами во имя приобретения
шляхетских: прав, не для того прошло через кровавую эпопею
хмельничины, чтобы так просто отказаться от вековой мечты. Оно
избрало самый верный метод — как можно меньше говорить о ней.
Хлопоча о сословных казачьих правах и выговаривая привилегии,
Богдан с товарищами думал о гораздо большем — об удержании
захваченной ими реальной власти. Хитрость их в предупреждении
подозрений сказалась в безоговорочном признании установившегося
во время восстания порядка на Украине, как временного. На самом
деле, это был тот порядок о котором они мечтали и который
намерены были удерживать всеми средствами. Стремились только
выиграть время, получше изучить московских политиков, проникнуть
в их замыслы и узнать их слабые места.
Когда это было
сделано, когда царское правительство допустило несколько ошибок,
способствовавших укреплению положения Богдана, обстановка для
него стала складываться благоприятно. С этих пор он и мысли не
допускал о временности гетманского режима, но учинился таким
неограниченным властителем в Малороссии, каким никогда не был
польский король. Из предводителя войска он сделался правителем
страны. Что же до русского царя, то его административный
аппарат, попросту, не был допущен в Малороссию до самого ХVIII
века. Власть на Украине оказалась узурпированной казаками.
БОРЬБА КАЗАЧЕСТВА ПРОТИВ
УСТАНОВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
МАЛОРОССИИ
Считалось само собой разумеющимся, что после
присяги и прочих формальностей связанных с присоединением
Малороссии, московские воеводы должны заступить место польских
воевод и урядников. Так думал простой народ, так говорили казаки
и старшина, Выговский и Хмельиицкий. Два года спустя, после
переяславской рады, Павел Тетеря, посланный Хмельницкого, уверял
в Москве думных людей, будто войско запорожское желает, «чтобы
всеми городами и месты, которые в запорожском войске, владеть
одному царскому величеству».
Но московское правительство до самой смерти
Хмельницкого не удосужилось этого сделать. Все его внимание и
силы устремлялись на войну с Польшей, возгоревшуюся из-за
Малороссии. Оно поддалось на уговоры Богдана, просившего
повременить как с описью на предмет обложения, так и с присылкой
воевод, ссылаясь на военное время, на постоянное пребывание
казачества в походах, на незаконченность реестрования. В течение
трех лет Москва воздерживалась от реализации своих прав. А за
это время, гетман и старшина, распоряжаясь, как полные хозяева,
приобрели необычайный вкус к власти и к обогащению — собирали
налоги со всех слоев населения в свою пользу, судили, издавали
общеобязательные приказы. Казачьи учреждения присвоили себе
характер ведомств верховной власти. Появись московские воеводы в
Малороссии сразу же после переяславской присяги, у казаков не
было бы повода для такого эксперимента. Теперь они проделали его
удачно и окрыленные успехом сделались смелыми и наглыми. Когда
правительство, в 1657 г., решительно подняло вопрос о введении
воевод и взимании налогов, Хмельницкий отказался от собственных
слов в Переяславле и от речей своих посланных в Москве.
Оказалось, что «и в мысли у него не было, чтоб царское
величество в больших городах, в Чернигове, в Переяславле, в
Нежине, велел быти своего царского величества воеводам, а доходы
бы сбирая, отдавати царского величества воеводам. Будучи он,
гетман, на трактатех царского величества с ближним боярином В.
В. Бутурлиным с товарищи, только до молвили, что быти воеводам в
одном г. Киеве...»
38.
Смерть Богдана
помешала разгореться острому конфликту, но он вспыхнул при
преемнике Хмельницкого Иване Выговском, начавшем длинную цепь
гетманских измен и клятвопреступлений. В его лице старшина
встала на путь открытого противодействия введению царской
администрации я, тем самым, на путь нарушения суверенных прав
Москвы. «Воеводсий» вопрос приобрел исключительное политическое
значение. Строго говоря, он был причиной всех смут заполнивших
вторую половину ХVII века. Воеводы сделались страшилищем,
кошмаром преследовавшим казачью старшину во сне и наяву.
Малейший намек на их появление повергал ее в лихорадочное
состояние. Воеводами старались запугать весь народ, представляя
их людьми жестокими, алчными, бессердечными; говорили, будто они
запретят малороссам ношение сапог и введут лапти, что все
население погонят в Сибирь, местные обычаи и церковные обряды
заменят своими москальскими
—
крестить
младенцев прикажут посредством погружения в воду, а не
обливанием... Такими росказнями москвичам создали репутацию
задолго до их появления в крае.
Характерно для
всей второй половины ХVII века обилие жалоб на всевозможные
москальские насилия. Но тщетно было бы добираться до реальных
основ этих жалоб. Всегда они выражались в общей форме, без
ссылок на конкретные факты и всегда исходили от старшины.
Делалось это чаще в устной, а не в письменной форме на шумных
радах при избрании гетманов или при объяснениях по поводу каких
ни будь казачьих измен. Ни в московских, ни в малороссийских
архивах не найдено делопроизводств и расследований по поводу
обид или притеснений учиненных над малороссами царскими
чиновниками, нет указаний на самое возникновение таких
документов. Зато много оснований думать, что их и не было.
Вот эпизод,
относящийся к 1662 году. Наказной гетман Самко жаловался царю на
московских ратных людей, которые, якобы, били, грабили
переяславцев и называли их изменниками. По его уверениями, даже
воевода кн. Волконский принимал в этом участие и мирволил
буянам, вместо того, чтобы карать их. Но когда царь отправил в
Переяславль стольника Петра Бунакова для сыска виновных — Самко
отказался от расследования и приложил все усилия, чтобы замять
дело, Он заявил, что иные обиженные пали на войне, другие в
плену, третьим некого привлекать к ответственности, потому, что
обидчики исчезли. Бунаков прожил в Переяславле месяц — с 29 мая
по 28 июня — и за все это время привели к нему одного только
драгуна пойманного в краже. Его били кнутом на козле и провели
сквозь строй. Призвав казачьих начальников Бунаков спросил:
будут ли наконец челобитные от переяславцев на московских ратных
людей? Те отвечали что многие переяславцы уже помирились со
своими обидчиками, а новых челобитий по их мнению, скоро не
будет и потому они полагают, что ему, Бунакову, нет смысла
проживать здесь долее
39.
На глуховской раде, при избрании в гетманы Д. Многогрешного, в
1668 году, царский посланный кн. Ромодановский в ответ на
заявления старшины о том, что служилые люди устраивают пожары с
целью грабежа, — говорил: «О том великому государю не бывало ни
от кого челобитья ни прежде сего, ни в последнее время; если же
бы челобитье такое было, против челобитья был бы сыск, а по
сыску, смотря по вине, тем вором за их воровство и казнь учинена
была бы. Знатно, то дело ныне затеяли вы, чтоб воеводам в
городах не быть»
40.
Гетман и старшина не нашлись, что на это возразить. Не получив
отражения в актовом, документальном материале, злоупотребления
царских властей расписаны, зато, необычайно пышно, во всякого
рода памфлетах, воззваниях, анонимных письмах, в легендарных
историях Украины. Этого рода материал настолько обилен, что
соблазнил некоторых историков ХIХ века, вроде Костомарова,
принимавшего его без критики и повторявшего в своих ученых
сочинениях версию о злоупотреблениях московских властей.
Что московская
бюрократия ХVII века не может служить образцом добродетели,
хорошо известно. Но какова бы она ни была у себя дома, она
обладала редким политическим тактом в деле присоединения и
колонизации чужих земель. В противоположность англичанам,
португальцам, испанцам, голландцам, истреблявшим целые народы и
цивилизации, заливавшим кровью острова и материки, Москва
владела тайной удержания покоренных народов не одним только
принуждением. Меньше всего у нее было склонности применять
жестокие методы в отношении многочисленного, единокровного,
единоверного народа малороссийского, добровольно к ней
присоединившегося. Правительство царя Алексея Михайловича и все
последующие превосходно знали, что такой народ, если он захочет
отойти, никакой силой удержать невозможно. Пример его недавнего
отхода от Польши у всех был в памяти. В Москве, поэтому, ревниво
следили, чтобы чиновники попадавшие в Малороссию не давали своим
поведением повода к недовольству. От единичных, мелких
злоупотреблений уберечься было трудно, но борьба с ними велась
энергичная. Когда стольник Кикин, в середине 60-х годов,
обнаружил, что в списках податного населения попадаются казаки,
занесенные туда по небрежности или по злой воле царских писцов —
оным писцам учинено было строгое наказание. Такому же сыску и
наказанию подверглись все переписчики замеченные в лихоимстве,
по каковому поводу гетман со всеми полтавскими казаками
приносили царю благодарность. В Москве следили за тем, чтобы
малороссиян, даже, худым словом не обижали. После измен гетманов
— Выговского, Юрия Хмельницкого, Брюховецкого, после
бесчисленных переходов казаков от Москвы к Польше, от Польши к
Москве, когда самые корректные люди не в силах были сдерживать
своего раздражения на такое непостоянство, некоторые русские
воеводы, в прилегающих к Украине городах, взяли привычку
называть приезжавших к ним для торга малороссов изменниками.
Когда в Москве об этом стало известно, воеводам был послан указ
с предупреждением, что «если впредь от них такие неподобные и
поносные речи пронесутся, то будет им жестокое наказанье безо
всякой пощады». Даже самых знатных особ резко одергивали за
малейшее нарушение малороссийских «вольностей».
До нас дошла отписка из Москвы на имя кн. М. Волконского —
воеводы Каневского. В 1676 году, этому воеводе попался в руки
лазутчик с правого берега Днепра, признавшийся, что ходил от
враждебного гетмана Дорошенко с «воровским листом» к полковнику
Гурскому. Это же подтвердил и слуга полковника. Волконский, не
предупредив левобережного гетмана Самойловича, которому подчинен
был Гурский, начал дело о его измене. Самойлович обиделся и
пожаловался в Москву. Оттуда Волконский получил отставку и
выговор: «То ты дуростию своею делаешь негораздо, вступаешься в
их права и вольности, забыв наш указ; и мы указали тебя за то
посадить в тюрьму на день, а как будешь на Москве, и тогда наш
указ сверх того учинен тебе будет»
41.
Запрещал и Петр попрекать украинцев изменой Мазепы. В некоторых
важных случаях он грозил даже смертной казнью за это.
При таких строгостях и при таком уважении к
дарованным им правам, казаки имели возможность мирным, лояльным
путем добиваться устранения воеводских злоупотреблений, если бы
такие были. Но злоупотреблений было меньше, чем разговоров о
них. Московская администрация на Украине, не успев появиться и
пустить корни, была форменным образов вытеснена оттуда. Не она
нарушала дарованные украинцам права и привилегии, а казачество
постоянно нарушало верховные права Москвы, принятые и
скрепленные присягой в Переяславле.
***
Впервые о введении войск в Малороссию
заявлено было гетману Выговскому, в конце 1657 г Для этой цели
отправлен в Малороссию стольник Кикин с известием, что идут туда
войска под начальством кн. Г. Г. Ромодановского и В. Б.
Шереметева. Кроме того, для участия в раде, Едут царские
посланные — кн. А. Н. Трубецкой и Б. М. Хитрово. Войска
посылались в города в качестве обыкновенных гарнизонов и
воеводам не было дано административных прав — ни суд, ни сбор
податей, ни катя бы то ни было отрасли управления их не
касались. Рассматривались они, как простая воинская сила для
удержания царских владений. Кикину приказано было
разъяснить городским жителям, что их вольностям опасности не
грозит и что войска присылаются для оберегания края от ляхов и
от татар. Поляки, в свое время, не допускали возведения
крепостей на Украине, вследствие чего она оставалась беззащитной
в случае внешнего нападения. Об укреплении ее и о защите с
помощью царских войск просили Хмельницкий и старшина в 1654 г.,
включив в свою мартовскую челобитную специальный пункт по этому
поводу. И позднее, как Хмельницкий, так и Выговский настаивали
на удовлетворении этой просьбы. О присылке войск ходатайствовал
в 1656 г. Павел Тетеря, — в бытность свою послом в Москве. Со
стороны казачества, Москва меньше всего могла ожидать какой ни
будь оппозиции. Но тут и выяснилось, как плохо знала она своих
врагов и своих друзей на Украине. Получилось так, что в городах
и селах весть о приходе московских войск встречена была с
одобрением, даже с восторгом, тогда как враждебная реакция
последовала со стороны гетмана и казаков. Мещане, мужики и
простые казаки выражали царскому стряпчему Рагозину, когда он
ехал к Выговскому, желание полной замены казачьей администрации
администрацией царской. Котляр — наказной войт в Лубнах —
говорил: «Мы все были рады, когда нам сказали, что будут царские
воеводы, бояре и ратные люди; мы мещане с казаками и чернью
заодно. Будет у нас в Николин день ярмарка и мы станем
советоваться, чтоб послать к великому государю бить челом, чтоб
у нас были воеводы». То же говорили бедные казаки: «Мы все рады
быть под государевою рукою, да лихо наши старшие не станут на
мере, мятутся, только вся чернь рада быть за великим государем».
Нежинский протопоп Максим Филимонов прямо писал боярину Ртищеву:
«Изволь милостивый пан советовать царю, чтоб не откладывая взял
здешние края и города черкасские на себя и своих воевод
поставил, потому что все желают, вся чернь рада иметь одного
подлинного государя, чтоб было на кого надеяться; двух вещей
только боятся: чтоб их отсюда в Москву не гнали, да чтоб обычаев
здешних церковных и мирских не переменяли... Мы все желаем и
просим, чтоб был у нас один Господь на небе и один царь на
земле. Противятся этому некоторые старшие для своей прибыли:
возлюбивши власть не хотят от нее отступиться»
42.
Примерно то же говорили запорожцы отправившие в Москву свое
посольство тайно от Выговского.
В июне 1658 г., когда воевода В. Б. Шереметев
шел в Киев, жители на всем пути приветствовали его, выходили
навстречу с иконами, просили прислать царских воевод в остальные
города
43.
Зато у гетмана и старшины весть о приходе царских войск вызвала
панику и злобную настороженность. Она усилилась, когда стало
известно, что стольник Кикин, по дороге, делал казакам
разъяснения, касательно неплатежа им жалованья. Царское
правительство не требовало с Малороссии, в течении четырех лет,
никаких податей. Оно и теперь не настаивало на немедленной их
уплате, но его тревожили слухи о недовольстве простого
казачества, систематически не получавшего жалованья. Боясь, как
бы это недовольство не обратилось на Москву, оно приказало
Кикину ставить народ в известность, что все поборы с Украины
идут не в царскую, а в гетманскую казну, собираются и
расходуются казацкими властями.
Выговский почуял немалую для себя опасность в
таких разъяснениях. Мы уже знаем, что Москва, согласившись на
просьбу Богдана платить жалованье казакам, связывала этот вопрос
с податным обложением, она хотела, чтобы жалованье шло из сумм
малороссийских сборов.
Ни Хмельницкий,
ни его посланные Самойло Богданов и Павел Тетеря, никаких
возражений по этому поводу не делали, да и трудно представить
себе какие либо возражения, но содержавшая
пункт о жаловании челобитная Богдана, которую он
посылал в Москву в марте 1654 г., оказалась утаенной от всего
казачества, даже от старшины. Лишь несколько лиц, в том числе
войсковой писарь Выговский, знали об изложенных там просьбах
44.
Старый гетман, видимо, не хотел привлекать чье бы то ни было
внимание к вопросу о сборе податей и к финансовому вопросу в
целом. В «бюджет» Малороссии никто, кроме гетманского уряда, не
должен был посвящаться. Нельзя не видеть в этом нового
доказательства низменности целей, с которыми захвачена власть
над Южной Русью. Впервые статьи Хмельницкого оглашены в 1659 г.
во время избрания в гетманы его сына Юрия, но в 1657 г.
Выговский столь же мало заинтересован был в их огласке, как и
Богдан. Разъяснения Кикина ускорили разрыв его с Москвой. Он
приехал в Корсунь, созвал там полковников и положил булаву. «Не
хочу быть у вас гетманом; царь прежния вольности у нас отнимает,
и я в неволе быть не хочу». Полковники вернули ему булаву
и обещали за вольности стоять вместе. Затем гетман
произнес фразу означавшую форменную измену: «Вы полковники
должны мне присягать, а я государю не присягал, присягал
Хмельницмй». Это, повидимому, даже для казачьей старшины было не
вполне пристойное заявление, так что полтавский полковник Мартын
Пушкарь отозвался: «Все войско запорожское присягало великому
государю, а ты чему присягал, сабле или пищали?»
45.
В Крыму, московскому посланнику Якушкину удалось проведать, что
Выговский щупает почву на случай перехода в подданство к хану
Мегмет Гирею. Известна и причина: «царь присылает к ним в
черкасские города воевод, а он гетман не хочет быть у них под
началом, а хочет владеть городами сам, как владел ими
Хмельницкий»
46.
Между тем, кн. Г. Г. Ромодановский с войском
семь недель дожидался гетмана в Переяславле, и когда Выговский
явился — упрекал его за медлительность. Он ставил на вид, что
пришел по просьбе Хмельницкого, да и самого же Выговского, тогда
как теперь, ему не дают кормов в Переяславле, отчего он поморил
лошадей и люди от бескормицы начинают разбегаться. Если и впредь
кормов не дадут, то он, князь, отступит назад в Белгород. Гетман
извинился за неполадки, но решительно просил не отступать,
ссылаясь на шаткость в Запорожье и в других местах. Весьма
возможно, что он был искренен, в данном случае. Выговский
пользовался чрезвычайной непопулярностью среди «черни»; в нем
справедливо усматривали проводника идеи полного главенства
старшины в ущерб простому казачеству. Запорожцы тоже его не
любили за то, что он запрещал им рыбу ловить и вино держать на
продажу. Они готовы были при первом удобном случае восстать на
него. Гетман это знал и боялся. Присутствие московских войск на
Украине было ему, в этом смысле, на руку. Ромодановскому он
прямо говорил: «После Богдана Хмельницкого во многих черкасских
городах мятежи и шатости и бунты были, а как ты с войском пришел
и все утихло. А в Запорожьеи и теперь мятеж великий...». Но,
видимо, опасность пребывания царских войск в крае перевешивала в
его глазах ту выгоду, которую они ему приносили. Именно в этот
момент, т. е. с приходом Ромодановского, у него окончательно
созрело решение об измене.
Между тем, на
гетмана восстал Мартын Пушкарь — полтавский полковник. Среди
других начальных людей замечена была тоже шаткость, так что
Выговский казнил в Гадяче некоторых из них, а на Пушкаря
отправился походом, призвав на помощь себе крымских татар. В
Москве встревожились. К гетману послали Ивана Апухтина с
приказом не расправляться самовольно со своими противниками и не
приводить татар, но ждать царского войска. Апухтин хотел ехать к
Пушкарю, чтобы уговорить его, но Выговский не пустил. Он в это
время уже был груб и бесцеремонен с царскими посланниками. Он
осадил Полтаву, взял Пушкаря вероломством и отдал город на
ужасающий погром татарам. Москва, тем временем, успела вполне
узнать о его намерениях. Со слов митрополита киевского, духовных
лиц, родни покойного Хмельницкого, киевских мещан и всяких чинов
людей стало известно о сношениях Выговского с поляками на
предмет перехода к ним. 16 августа 1658 года прибежали в Киев
работники из лесов с известием, что казаки и татары идут под
город, а 23 августа Данило Выговский — брат гетмана — явился к
Киеву с двадцатитысячным казацко-татарским войском. Воевода
Шереметев не дал застигнуть себя врасплох и отбил нападение с
большим для Выговского уроном. Казаки, таким образом, объявили
Москве настоящую войну. 6 сентября 1658 г., гетман Выговский
заключил в Гадяче договор с польским послом Беневским, согласно
которому запорожское войско отказывалось от царского подданства
и заложилось за короля. По этому договору, Украина соединялась с
Речью Посполитой на правах, якобы, самобытного государства под
названием «Великого Княжества Русского». Гетман избирался
казаками и утверждался королем пожизненно. Ему принадлежала
верховная исполнительная власть. Казачий реестр определялся в
30.000 человек. Из них, гетман имел право ежегодно представлять
королю несколько человек для возведения в шляхетское достоинство
с таким расчетом, чтобы число их из каждого полка не превышало
100. Договор был составлен так, что многие жизненные для Украины
вопросы оставлялись неразрешенными и туманными. Такова была
проблема Унии. Малороссы видеть ее у себя не хотели, но фанатизм
польских католиков был не меньший. Они приходили в ярость при
одной мысли о возможных уступках схизматикам. Польскому
комиссару Беневскому, заключавшему договор с Выговским. пришлось
долго уламывать депутатов сейма в Варшаве. «Мы теперь должны
согласиться для вида на уничтожение Унии, чтобы их приманить
этим, — говорил он, — а потом... мы создадим закон, что каждый
может верить, как ему угодно, — вот и Уния останется в целости.
Отделение Руси в виде особого княжества будет тоже не долго:
казаки, которые теперь думают об этом, — перемрут, а наследники
их не так горячо будут дорожить этим и мало по малу все примет
прежний вид»
47.
Такой же коварный замысел у поляков существовал относительно
реставрации крепостного права. Ни полномочия земельных
владельцев, ни права крестьян, что будут жить на их землям
совершенно не оговаривались в трактате. Выговский и
старшина молчаливо продавали простой народ в рабство, из
которого он с такими мучениями вышел во время Хмельничины.
Несмотря на то, что рада состояла из избранной части казачества,
договор вызвал у нее так много сомнений, что едва не был
отвергнут. Спас положение Тетеря, крикнув: «Эй! згодимоса
панове-молодцы, з ляхами — бильшо будемо мати, покирливо телятко
дви матери ссет!». На последовавшем после этого пиру, Выговский
уверял казаков, будто все они по этому договору будут
произведены в шляхетство
48.
***
Выяснилось, однако, что далеко не все войско
запорожское последовало за Выговским, многие остались верны
Москве и выбрав себе нового гетмана Безпалого начали войну с
Выговским. 15 января 1659 г., кн. А. Н. Трубецкой с большим
войском выступил на помощь Безпалому. Но в конце июня это войско
постиг жестокий разгром под Конотопом. Туда пришли татарский хан
и Выговский со своими приверженцами. Один из русских
предводителей, кн. С. Р. Пожарский, увлекшись преследованием
казаков, попал в ловушку, был смят татарами и очутился со своим
войском в плену. Самого его за буйное поведение (он плюнул
хану в лицо) казнили; остальных русских пленных, в количестве
5.000 человек, казаки вывели на поле и перерезали, как баранов
49.
Узнав о гибели отряда Пожарского, Трубецкой в страшном
беспорядке отступил в Путивль. Если бы татары захотели, они
могли бы в этот момент беспрепятственно дойти до самой Москвы.
Но хан, поссорившись с Выговским, увел свои войска в Крым, а
Выговский должен был вернуться в Чигирин. Он пробовал оттуда
действовать против москвичей, выслав на них своего брата Данилу
с войском, но 22 августа Данило был наголову разбит.
30 августа, воевода Шереметев писал из Киева
царю, что полковники переяславский, нежинский, черииговский,
киевский и лубенский — снова присягнули царю. Услышав об этом,
западная сторона Днепра тоже стала волноваться и почти вся
отошла от Выговского. Казаки собрались вокруг Юрия Хмельницкого
— сына Богдана, который 5 сентября писал Шереметеву, что он и
все войско запорожское хочет служить государю. В тот же день,
воевода Трубецкой двинулся из Путивля на Украину и везде был
встречаем с триумфом, при громе пушек. Особенно торжественную
встречу устроил Переяславль. Население повсеместно присягало
царю.
Получились так,
как предсказывал Андрей Потоцкий, прикомандированный поляками к
Выговскому и командовавший при нем польским вспомогательным
отрядом. Наблюдая события, он писал королю: «Не изволь ваша
королевская милость ожидать для себя ничего доброго от здешнего
края. Все здешние жители (Потоцкий имел ввиду обитателей правого
берега) скоро будут московскими, ибо перетянет их к себе
заднепровье (восточная сторона), а они того и хотят и только
ищут случая, чтоб благовиднее достигнуть желаемого»
50.
Измена Выговского показала, как трудно оторвать Украину от
Московского Государства. Каких ни будь четыре года прошло со дня
присоединения, а народ уже сжился с новым подданством так, что
ни о каком другом слышать не хотел. Больше того, он ни о чем так
не мечтал, как об усилении этого подданства. Ему явно не
нравились те широкие права и привилегии, что казачество
выхлопотало себе в ущерб простому народу. Некоторые из писем
направленных в Москву содержали угрозу: если царь не пресечет
казачий произвол и не утвердит своих воевод и ратных людей, то
мужики и горожане разбегутся со своих мест и уйдут, либо в
великорусские пределы, либо за Днепр. Этот голос крестьянского и
городского люда слышится на протяжении всех казачьих смут второй
половины ХVII столетия. Протопоп Симеон Адамович писал в 1669
г.: «Воля ваша; если прикажете из Нежина, Переяславля, Чернигова
и Остра вывести своих ратных людей, то не думайте, чтоб было
добро. Весь народ кричит, плачет: как израильтяне под
египетскою, так они под казацкою работою жить не хотят; воздев
руки молят Бога, чтоб по прежнему под вашею государскою державою
и властию жить; говорят все: за светом государем живучи, в
десять лет того бы не видели, что теперь в один год за казаками»
51.
10 октября 1659 г., Юрий Хмельницкий со
старшиной прибыл в Переяславль к Трубецкому. Старшина извинялась
за измену и жаловалась, что принудил ее к этому «Ивашко
Выговский».
***
|
|
|
|
Стр.3
|
|
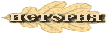 |
|
|
|
|
|
|