|
|
|
|
|
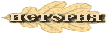 |
|
Стр.9
|
|
|
|
|
Как ни
убедительно звучит версия, объясняющая эмиграцию Драгоманова
этими репрессиями, она не имеет под собой оснований. Несмотря на
шум, поднятый вокруг Указа 1876 г., никаким ударом, для
украинского движения он не был. На практике он почти не
соблюдался. Спектакли устраивались под носом у полиции без
всякого разрешения, листки и брошюры печатались при полном
попустительстве властей. Некий Тарас Новак имел случай
беседовать в 1941 г. с престарелой вдовой драматурга Карпенко
Караго — Софьей Витальевной Тобилевич, вспоминавшей с восторгом
о гастролях театра Кропивницкого, как раз, в годы «реакции».
Театр, встречал «великолепный прием по всей России, особенно в
Москве и в Петербурге. Его пригласили ко двору, в Царское Село,
где сам император Александр III наговорил актерам всяческих
комплиментов. Когда же Кропивницкий пожаловался одному из
великих князей на киевского генерал-губернатора, не допускавшего
(во исполнение указа) спектаклей театра в Киеве, то великий
князь успокоил: об «этом старом дураке» он поговорит с министром
внутренних дел. После этого препятствий не чинилось нигде»
155.
Хотя, формально и официально, все ограничения
украинской печати отпали только в 1905 году, фактически они не
соблюдались с самого начала.
Не успели опубликовать указ, как началось
постепенное его аннулирование. Сама киевская и харьковская
администрация подняла перед правительством вопрос о ненужности и
нецелесообразности запретов
156.
Вскоре, вместо закрытых «Записок»
Географического Общества, стал выходить журнал «Киевская
Старина», вокруг которого собрались те же силы, что работали в
Географическом Обществе.
Указ 1876 г. никому кроме самодержавия вреда
не принес. Для украинского движения он оказался манной небесной.
Не причиняя никакого реального ущерба, давал ему долгожданный
венец мученичества. Надобно послушать рассказы старых украинцев,
помнящих девяностые и девятисотые годы, чтобы понять всю жажду
гонений, которую испытывало самостийничество того времени.
Собравшись в праздник в городском саду, либо на базарной
площади, разряженные в национальные костюмы, «суспильники» с
заговорщицким видом затягивали «Ой на горе та жнеци жнуть»;
потом с деланным страхом оглядывались по сторонам в ожидании
полиции. Полиция не являлась. Тогда чей ни будь зорюй глаз
различал вдали фигуру скучающего городового на посту — такого же
хохла и, может быть, большого любителя народных песен. «Полиция!
Полиция!». Синие шаровары и пестрые плахты устремлялись в
бегство «никем же гонимы». Эта игра в преследования означала
неудовлетворенную потребность в преследованиях реальных.
Благодаря правительственным указам она была удовлетворена.
Мотивы, по
которым Драгоманов покинул Россию, ничего общего с
преследованиями не имели. Как ни странно, его пугали земские
реформы Александра II, которые он приветствовал вместе со всей
интеллигенцией. Лет через 10 после их осуществления, они ему
показались опасными для социалистического дела. «Практическая
будущность на ближайше время, — писал он, — принадлежит в России
тем, своего рода политическо-социальным оппортунистам, которые
не замедлят в ней появиться среди земств, и для которых
теперешние социалисты-революционеры только расчищают дорогу». Он
предложил всем «чистым» социалистам теперь же перенести свою
деятельность в страны, где предстоящий России политический
вопрос, так или иначе, уже решен
157.
Но был еще один мотив. О нем, обычно, не
говорится, но он подразумевается во всех речах и действиях
Драгоманова.
Дело в том, что украинофильство, в лучшие
свои времена, насчитывало до того ничтожное количество
последователей и представляло столь малозаметное явление, что
приводило, порой, в отчаяние своих вожаков. Простой народ
абсолютно не имел к нему касательства, а 99 процентов
интеллигенции относилось отрицательно; в нем видели «моду» —
внешнее подражание провансальскому, ирландскому, норвежскому
сепаратизмам, либо глупость, либо своеобразную форму
либерально-революционного движения. Но в этом последнем случае,
монархически-охранительная часть, типа Юзофовича, обнаруживала
нескрываемую вражду к нему, а другая, не чуждая сама революции и
либерализма, шла не в «громады» и «спилки», а в лавризм, в
нечаевщину, в народовольчество, в черные переделы.
Общероссийское революционное движение, как магнит, втягивало в
свое поле все частицы металла, оставляя украинофильским
группировкам шлак и аморфные породы. Никакой украинской редакции
освободительного движения малороссийская интеллигенция не
признавала. За это и снискала лютую ненависть. Можно сказать,
что у самостийников не было большего врага, чем своя украинская
интеллигенция. Даже у Драгоманова, чуждого проявлений всяких
недостойных чувств, прорывались порой горькие сетования по ее
адресу. Это она сделала украинофилов «иностранцами у себя дома».
Но когда он попробовал, однажды, упрекнуть в чем-то подобном
земляка Желябова, то получил отповедь в виде саркастического
вопроса: «Где же ваши фении? Парнелль?»
158.
Незадолго до отъезда Драгоманова, произошло
событие, явившееся для него настоящим ударом. Подобно
кирилло-мефодиевцам, он был последователем идеи славянской
федерации. И вот пришло время послужить этой идее по настоящему.
На Балканах вспыхнуло восстание славян против турок. Известно,
как реагировало на это русское общество. Со всех концов России,
в том числе из малороссии, устремились тысячи добровольцев на
помощь восставшим. Громада заволновалась. На квартире у
Драгоманова устроено было собрание, где решено послать на
Балканы отряд, который бы не смешиваясь с прочими волонтерами,
явился туда под украинским флагом.
Принялись за организацию. Дебагорий-Мокриевич
поехал для этой цели в Одессу, остальные занялись вербовкой
охотников в Киеве. Результат был таков: Дебагорию удалось
«захватить» всего одного добровольца, а в Киеве под украинский
флаг встало шесть человек, да и то это были люди «нелегальные»,
искавшие способа сбежать за границу
159.
Знать, что дело которому посвятил жизнь,
непопулярно в своей собственной стране — одно из самых тяжелых
переживаний. Отъезд Драгоманова означал не невозможность работы
на родине, а молчаливое признание неудачи украинофильства в
России и попытку добиться его успеха в Австрии.
Но если для Драгоманова этот мотив был не
единственный и, может быть, не главный, то для остальных
украинофилов, ездивших в Галицию, он был главным. Поездки туда
начались задолго до указа 1876 г., даже до валуевского запрета
1863 г. И печататься там начали до этих запретов. Печаталась,
прежде всего, та категория авторов, которая ни под один из
запретительных указов не подпадала, — беллетристы. Это лучшее
свидетельство несправедливости мнения, будто перенесение центра
деятельности «за кордон» было результатом преследований царского
правительства.
Поведение беллетристов Драгоманов объясняет
их бездарностью. Ни Чайченко, ни Конисского, ни Панаса Мирного,
ни Левицкого-Нечуя никто на Украине не читал. Некоторые из них,
как Конисский, испробовали все способы в погоне за популярностью
— сотрудничали со всеми русскими политическими лагерями, от
крайних монархистов до социалистов, но нигде не добились похвал
своим талантам. В Галиции, где они решили попробовать счастья,
их тоже не читали, но галицийская пресса, по дипломатическим
соображениям, встретила их ласково. Они-то и стали на Украине
глашатаями лозунга о Галиции, как втором отечестве.
В то время, как Герцен, с которым Драгоманова
часто сравнивают, покинув Россию, обрел в ней свою читательскую
аудиторию и сделался на родине не просто силой, но «властью», —
Драгоманова на Украине забыли. Произошло это, отчасти, из-за
ложного шага, выразившегося в избрании полем деятельности
Галицию, но главным образом потому, что лишив днепровскую группу
своего «социалистического» руководства, он оставил ее один на
един с «Историей Русов», с кобзарскими «думами», с казачьими
легендами. Казакомания заступила место социализма. Все реже
стали говорить о «федерально-демократическом панславизме» и все
чаще — спивать про Сагайдачного. Кирилло-мефодиевская
фразеология понемногу вышла из употребления. То была расплата за
страстное желание видеть в Запорожской Сечи «коммуну», а в
гетманском уряде — образец европейской демократии.
Продолжительное воспевание Наливаек, Дорошенок, Мазеп и
Полуботков, как рыцарей свободы, внедрявшаяся десятилетиями
ненависть к Москве не прошли бесследно. Драгоманову не на кого
было пенять, он сам вырос казакоманом. Наряду с
высококультурными, учеными страницами, в его сочинениях
встречаются вульгарные, возмущения по поводу раздачи панам
пустых степных пространств «принадлежавших» Запорожской Сечи, а
также жалобы на обрусение малороссов, вызванное, будто бы,
«грубым давлением государственной власти». Ни одного примера
давления не приводится, но утверждение высказывается
категоричное.
С поразительной для ученого человека
слепотой, он полагал, что светлая память о гетманщине до сих пор
живет в народе и что нет лучшего средства восстановить
украинского крестьянина против самодержавия, как напомнить ему
эту эпоху свобод и процветания. Он даже набросал проект
прокламации к крестьянам: «У нас были вольные люди казаки,
которые владели своею землею и управлялись громадами и выборными
старшинами; все украинцы хотели быть такими казаками и восстали
из-за того против польских панов и их короля; на беду только
старшина казацкая и многие казаки не сумели удержаться в
согласии с простыми селянами, а потому казакам пришлось искать
себе помощи против польской державы у московских царей, и
поступили под московскую державу, впрочем, не как рабы, а как
союзники, с тем, чтоб управляться у себя дома по своей воле и
обычаям. Цари же московские начали с того, что поставили у нас
своих чиновников, не уважавших наших вольностей, ни казацких, ни
мещанских, а потом поделили Украину с Польшей, уничтожили все
вольности украинские казацкие, мещанские и крестьянские, затем
цари московские роздали украинскую землю своим слугам украинским
и чужим, закрепостили крестьян, ввели подати и рекрутчину,
уничтожили почти все школы, а в оставшихся запретили учить на
нашем языке, завели нам казенных, невыборных попов, пустили к
нам вновь еврейских арендаторов, шинкарей и ростовщиков, которых
было выгнали казаки, — да еще отдали на корм этим евреям только
нашу землю, запретив им жить в земле московской... Теперь...
хотим мы быть все вновь равными и вольными казаками»
160.
Если принять во внимание, что писано это в
1880 г., двадцать лет спустя после освобождения крестьян, когда,
чтобы быть вольным, вовсе не обязательно было становиться
казаком, то курьезность исторического маскарада станет особенно
ясна.
Сам Драгоманов так и остался дуалистом в
своем политическом мировоззрении, но киевские его приятели
быстро обрели полную «цельность», выбросив из своего умственного
багажа все несозвучное с так называемым «формальным
национализмом». Термин этот — связан с ростом числа не
рассуждающих патриотов, для которых утверждение «национальных
форм» стало главной заботой. Национальный костюм, национальный
тип, национальная поэзия, «национальне почуття», заступили
всякие идеи о народном благе, о «найкращем»
общественно-политическом устройстве. Происходит быстрое
отделение казачьего украинизма от либерально-революционной
российской общественности.
Но если, как уже
говорилось, идеология умершего сословия могла существовать в ХIХ
веке благодаря, лишь прививке к порожденному этим столетием
общественному явлению, то что могло ее ожидать в 80-х и 90-х
годах? Оторвавшись от русской революции, она привилась к
австро-польской реакции. Теперь уже не Костомаровы и
Драгомановы, а галицийское «народовство» берет на буксир
лишившуюся руля днепровскую ладью. Украинофильство попадает в
чужие, неукраинские руки; Киев склоняется перед Львовом.
С отъездом Драгоманова кончается собственно
украинский период движения и начинается галицийский, означающий
не продолжение того, что зародилось на русской почве, а нечто
иное по духу и целям.
ГАЛИЦИЙСКАЯ ШКОЛА
Уже к концу
прошлого столетия Галицию стали называть «украинским Пьемонтом»,
уподобляя ее роль той, которую Сардинское королевство сыграло в
объединении Италии. Несмотря на претенциозность, это сравнение
оказалось, в какой-то степени, верным. С конца 70-х годов, Львов
становится штаб-квартирой движения, а характер украинизма
определяется галичанами. Здесь выдаются патенты на истинное
украинофильство и здесь вырабатывается кодекс поведения всякого,
кто хочет трудиться на ниве национального освобождения. Широко
пропагандируется идея национального тождества между галичанами и
украинцами; Галицию начинают именовать не иначе, как Украиной.
Сейчас, благодаря советской власти, это имя столь прочно вошло в
употребление, что только историки знают о незаконности такого
присвоения. Если на самой Украине оно возникло лишь в конце ХVI,
в начале ХVII века и до самого 1917 г. жило на положении
прозвища, не имея надежды вытеснить историческое имя Малороссии,
то в Галиции ни народ, ни власти слыхом не слыхали про Украину.
Именовать ее так начала кучка интеллигентов в конце ХIХ века.
Несмотря на все ее усилия, «Украина» и
«Украинец» дальше страниц партийной прессы не распространялись.
Было ясно, что без чьей-то мощной поддержки чужое имя не
привьется. Возникла мысль ввести его государственным путем. У
кого она возникла раньше, у галицких украинофилов или у
австрийских чиновников — трудно сказать. Впервые, термин
«украинский» употреблен был в письме императора Франца Иосифа от
5 июня 1912 г. парламентскому русинскому клубу в Вене. Но
поднявшиеся толки, особенно в польских кругах, вынудили барона
Гейнольда, министра внутренних дел, выступить с разъяснением,
согласно которому термин этот употреблен случайно, в результате
редакционного недосмотра. После этого, официальные венские круги
воздерживались от повторения подобного опыта
161.
Только в глухой Буковине, откуда вести не проникали в широкий
мир, завели, примерно с 1911 г., обычай требовать от русских
богословов, кончавших семинарию, письменного обязательства:
«Заявляю, что отрекаюсь от русской народности, что отныне не
буду называть себя русским, лишь украинцем и только украинцем».
Священникам, не подписавшим такого документа, не давали прихода
162.
В 1915 г.,
членам австрийского правительства представлена была записка
отпечатанная в Вене в небольшом количестве экземпляров под
заглавием «Denkschrift uber die Notwendigkeit ausschliesslichen
Gebrauches des Nationalnamen “Ukrainer”».
Австрийцев соблазняли крупными политическим
выгодами могущими последовать в результате переименования
русинов в украинцев. Но имперский кабинет не прельстился такими
доводами. Весьма возможно, что на его позицию повлияло
выступление знаменитого венского слависта академика Ягича. «В
Галиции, Буковине, Прикарпатской Руси, — заявил Ягич, — эта
терминология, а равно все украинское движение, является чужим
растением, извне занесенным продуктом подражания... О всеобщем
употреблении имени «Украинец» в заселенных русинами краях
Австрии не может быть и речи; даже господа подписавшие
меморандум едва ли были бы в состоянии утверждать это, если бы
они не хотели быть обвиненными в злостном преувеличении»
163.
Другая подобная же попытка относится к 1923
году, когда Галиция находилась в составе возродившегося
польского государства. Исходила она от Наукового Товариства им.
Шевченко во Львове, которое особым меморандумом просило отменить
запрет наложенный кураторией львовского учебного округа на
название «Украина» и «украинец» в отношении Галиции и русинов
164.
Демарш этот, так же, как в 1915 г., никакого успеха не имел.
Утвердили и узаконили за Галицией название Украины большевики, в
1939 г., после раздела Польши между Сталиным и Гитлером. Они еще
задолго до захвата Галиции начали именовать ее «Западной
Украиной», что оказалось чрезвычайно удобным с точки зрения
последовавшего «воссоединения».
Но не только по именам, а и по крови, по
вере, по культуре, Галиция и Украина менее близки между собой,
чем Украина и Белоруссия, чем Украина и Великоруссия. Из всех
частей старого Киевского государства, Галицкое княжество раньше
и прочнее других подпало под иноземную власть и добрых 500 лет
пребывало под Польшей. За эти 500 лет ее русская природа
подверглась величайшим насилиям и испытаниям. Ее колонизовали
немецкими, мадьярскими, польскими и иными нерусскими выходцами.
Особенно жестоким был их наплыв при Людовике Венгерском, когда
Галиция (Червонная Русь) отдана была в управление силезскому
князю Владиславу Опольскому, человеку совершенно онемеченному.
Он роздал немцам и венграм множество урядов, земельных владений,
населил ими русские города, развил широкую сельскую колонизацию,
посадив на галицийские земли немецких крестьян, дав им важные
льготы по сравнению с коренным населением. Пусть не этим
«привилегированным» удалось онемечить галицийцев, а сами они
русифицировались, но с тех пор в жилах галичан течет не мало
чужой крови.
К расовым отличиям надлежит прибавить отличия
религиозные. Галиция первая из древних русских земель отступила
от православия и приняла Унию.
Наконец, язык ее совсем не тот, что в
Надднепрянщине. Даже наспех созданная «литерацка мова»,
объявленная общеукраинской, не способна скрыть существования
двух языков, объединенных только орфографией.
Это не трудно
установить, положив книжки Квитки-Основяненко, Шевченко, Марко
Вовчка рядом с произведениями Вагулевича, Гушалевича, Ивана
Франко и других галицийских писателей. До последней четверти ХIХ
века, ни галицийская литература на Украине, ни украинская в
Галиции — не были известны. Взаимное ознакомление началось после
того, как возникло панукраинское движение. Только тогда в
Галиции стали популяризировать Шевченко, а на Украине русинских
авторов.
Известный историк литературы А. Н. Пыпин в
свое время писал: «Галицийской литературе не принадлежат
произведения той нашей литературы малорусской, которая
развивалась уже в периоде разделения западного и восточного края
южной Руси, под влиянием жизни и образованности общерусской.
Начиная с Котляревского и даже еще раньше, условия нашей
малорусской литературы были уже иные, чем условия книжности
галицко-русской, и произведения малорусские усваиваются
галичанами опять с известной долей искусственности». То же
утверждает и Драгоманов, полагающий, что галицкую и украинскую
литературы «треба вважати, коли не за зовсим окремы, то же дуже
одминны одна вид другой»
165.
Нельзя забывать
и о школе. Украина училась в общерусских школах, читала русские
книги и впитывала русскую образованность, Галиция училась
по-польски, а потом, в ХIХ веке, по-немецки. Несмотря на сильное
развитие русофильства, во второй половине ХIХ века, каждый
образованный галичанин гораздо меньше имел понятия о Пушкине,
Гоголе, Лермонтове, Гончарове, Толстом, Достоевском, чем о
Мицкевиче, Словацком, Выспянском, Сенкевиче. Замечено, что даже
сведения о России и Украине почерпались галичанами, чаще всего,
из немецкой печати. Удивительно ли, что ко многим вопросам
кардинальной важности украинцы и галичане относились и относятся
по разному? Трудно, например, найти образованного украинца,
который бы порицал кн. Владимира Святого за насаждение на Руси
византийской культуры. Для галичан — это одиозная личность. Он
для них, прежде всего, не «святой», а только «великий», а
историческая его миссия всячески осуждается: он дал Руси не ту
веру и не ту культуру, которую следовало бы...
«Лихий вплив
(влияние) православного Царьгороду не дав нашим силам
сконсулидуватися, выкликував революции, деморализував тим самым
населення». Так писал, о. Степан С. Щавель в канадской газете
«Украинськи Висти»
166.
Царьград и Москва — два злых гения. «Москва вчила нас, як
бунтуватися проти гетманив, Царьгород бунтував одного князя
проти другого. Ни вид Москви, ни вид Царьгороду ничого доброго
ми не навчилися, бо сами вони ничого доброго не посидали. Ни
Царьгород, ни Москва не посидали принципив на яких моглаб була
развинути украинська культура». Галичане не любят культурного
прошлого южной Руси. Нелюбовь эту можно встретить не только в
писаниях простого униатского священника, но на страницах ученых
произведений галицийских профессоров, вроде Омельяна
Огоновского.
***
С тех пор, как
после раздела Польши Галиция перешла под власть Австро-Венгрии,
она представляла глубокую провинцию, где племя русинов или
рутенов, как его называли австрийцы, насчитывавшее в ХIХ в.
меньше двух миллионов душ, жило вперемежку с поляками.
Преобладающее, попросту говоря, господствующее положение
принадлежало полякам. Они были и наиболее богатыми, и наиболее
образованными; представлены, преимущественно, помещиками, тогда
как русины почти сплошь крестьяне и мещане. Драматический момент
во взаимоотношениях между Русью и Польшей заключается в том, что
там, где эти две народности тесно сожительствовали друг с
другом, первая всегда находилась в порабощении и в подчинении у
второй. Русинская народность стояла накануне полной потери
своего национального обличья. Все, что было сколько ни будь
интеллигентного и просвещенного (а это было, преимущественно,
духовенство), говорило и писало по-польски.
Для богослужебных целей имелись книги
церковно-славянской печати, а все запросы светского образования
удовлетворялись исключительно польской литературой.
Путешественники, посещавшие Галицию в 60-х годах отмечают, что
беседа в доме русинского духовенства, во Львове велась не иначе,
как на польском языке. И это в то время, когда в Галиции
появились признаки «пробуждения» и начали говорить о создании
собственного языка и литературы. Что же было в первой половине
столетия, когда ни о каких национальных идеях помину не было?
Лучше всего об этом рассказывают сами галичане. Перед нами
воспоминания Якова Головацкого
167
— одного из авторов знаменитой «Русалки Днестровой». Он
происходил из семьи униатского священника и признается, что отец
с матерью всегда говорили по-польски и только с детьми
по-русски. Отец его читал иногда проповеди в церкви «из тетрадок
писанных польскими буквами». «В то время, — говорит Головацкий,
— почти никто из священников не знал русской скорописи. Когда же
отец служил в Перняках, и в церкви бывала графиня с дворскими
паннами, или кто ни будь из подпанков, то отец говорил проповедь
по-польски». Самого Головацкого отец учил грамоте «по печатному
букварю церковнославянской азбуке — то называлось читати
по-русски, но писати по-русски я не научился, так як ни отец ни
дьяк не умели писати русскою скорописью». Тот же Головацкий
рассказывает эпизод из времени своего пребывания во львовской
семинарии. Власть польского языка и польской культуры выступает
в этом рассказе с предельной выразительностью. «Пасторалисты
дали себе слово не говорить проповедей, даже во львовских
церквах иначе, только по-русски. Плешкевич первый приготовил
русскую проповедь для городской церкви — но подумайте, какова
была сила предубеждения и обычая! Проповедник вышел на амвон,
перекрестился, сказал славянский текст и, посмотрев на
интеллигентную публику, он не мог произнести русского слова.
Смущенный до крайности, он взял тетрадку и заикаясь переводил
свою проповедь и с трудом кончил оную. В семинарии решили, что
во Львове нельзя говорить русских проповедей, разве в деревнях».
Таких случаев робости было не мало. Когда
Добрянский составил для своих слушателей грамматику
старославянского языка, он издал ее (в 1837 г.) по-польски, и
только в 1851 г. вышла она в русском переводе по просьбе «собора
ученых русских» собравшегося во Львове в 1848 г. Статья его о
введении христианской веры на Руси тоже напечатана была
по-польски (1840 г.) и потом уже по-русски (1846).
Ни о каком знакомстве с русской литературой
говорить не приходится. Русские книги знакомы были немногим
находившим их лишь в больших библиотеках, либо получавших по
знакомству из России от Погодина и Бодянского. То же и с
малороссийской книгой. Несмотря на то, что нарождавшаяся
украинская литература имела к тому времени, кроме Котляревского,
Гребенки, Гулака, также — Квитку, Кулиша и Шевченко, она не была
известна в Галиции. Знакомство с нею состоялось значительно
позднее, в результате долгих усилий панукраинских деятелей.
Русинское самосознание спало глубоким сном и народ медленно, но
неуклонно вростал в польскую народность.
Здесь не место рассказывать, как произошло
его национальное пробуждение. Тут и неизменные собиратели
народных песен — Вацлав Залесский, Лука Голембиевский, Жегота
Паули (все сплошь поляки); тут же и знаменитая «Русалка
Днестрова» — первый литературный сборник на русинском наречии,
вышедший в 1837 году.
Важно: — что это было за пробуждение? Ответ
дан давно, о нем можно прочесть даже у Грушевского.
Пробуждение было русское.
Во всех австро-венгерских владениях
населенных осколками русского племени — в Галиции, в Буковине, в
Угорской Руси — национальное возрождение понималось как
возвращение к общерусскому языку и к общерусской культуре.
Затираемое поляками, венграми, румынами,
немцами, население этих земель стихийно тяготело к России, как к
своей метрополии. Совершенно гипнотизирующее действие произвело
на него движение стотысячной армии Паскевича в 1849 г., шедшей
на подавление венгерского восстания. Она не только ослепила его
своей мощью и окружила образ России нимбом непобедимости, но
простой народ, живший в деревнях и местечках, был глубоко
взволнован тем, что вся эта армада говорила на совершенно
понятном почти местном языке. Для угорских русин, пришествие
русских было величайшим торжеством.
Придавленные мадьярским засильем они видели в
Паскевиче своего освободителя. Среди них давно уже началось
брожение против мадьяр, и один из деятелей этого движения —
Адольф Добрянский, вынужден был даже бежать в Галицию, где его
застал приход русской армии. Добрянскому удалось добиться
назначения его императорским австрийским комиссаром при русской
армии, в каковом звании он и прибыл к себе на родину. По его
инициативе была послана в Вену депутация с изложением
национальных нужд угорских русинов — с просьбой о выделении их
земель в особые «столицы», с учреждением в них местной русинской
администрации и русского языка в управлении и в школе. Просили
даже основать в Унгваре русскую академию. Император, напуганный
венгерским восстанием и видевший, в тот момент, в русинах своих
естественных союзников, на все отвечал согласием. Добрянский был
назначен «над-жупаном» (наместником) четырех столиц, учредил
русскую гимназию, завел делопроизводство на русском языке и
широко повел распространение в крае русской культуры. Ни
малейших колебаний в выборе между неразвитым местным наречием и
русским литературным языком не существовало. Закарпатская Русь с
самого начала встала на путь общерусской культуры. То же
наблюдалось в более глухой, неразвитой Буковине, совсем лишенной
собственной интеллигенции.
Но продолжался этот ренессанс недолго. Как
только венгерское восстание кончилось, как только австрийское
правительство помирилось с мадьярами и венгерская аристократия
снова приобрела влияние в государственных делах, началось
преследование всего русского. Сам Добрянский был устранен, а
местная интеллигенция подверглась гонению.
Что же касается Галиции, то там произошло
подлинное чудо. Несмотря на многовековое вытравливание всякой
памяти, о ее русском прошлом, несмотря на усиленную иноземную
колонизацию, в ней восторжествовало русофильство. Хотя там
сделана была попытка разработки местного наречия, но никто иной,
как сам Яков Головацкий, инициатор этого дела, пришел к
заключению о ненужности таких опытов, при наличии развитого
русского языка.
Для него, как и для подавляющего большинства
культурных галичан, выбор предстоял не между местным русинским
наречием и русским языком, а между польским и русским. Галичанин
должен быть либо поляком, либо русским — среднего нет. Стали
издаваться газеты на русском языке. Одной из них, «Слову»,
выпала роль столпа, вокруг которого стали собираться все
«москвофилы». Редактировал ее Яков Головацкий. Разумеется, язык,
как этой, так и других газет оставлял многого желать с точки
зрения русской грамотности, но редактора и писатели старательно
работали над овладением ею. В. Дзедзицкий выпустил брошюру: «Как
малороссу в один час научиться говорить по-русски». Еще в 1866
г. в «Слове» появилась статья, рассматривавшая русинов и
русских, как один народ и доказывавшая, что между украинцами и
великороссами нет никакой разницы. Вся Русь, по словам газеты,
должна употреблять единый литературный русский язык. Статья эта
сделалась как бы манифестом «москвофилов». Кроме Якова
Головацкого к ним примыкало не мало видных людей, из коих
необходимо особо упомянуть Наумовича, бывшего сначала польским
патриотом, а потом прошедшего тот же путь, что и Я. Головацкий —
через увлечение галицийским народничеством к москвофильству.
Причины подобного тяготения к России в
стране, где польское просвещение, польский язык сделали такие
успехи и где интеллигентный слой людей представлен исключительно
униатским духовенством, были бы необъяснимы, если бы не
церковно-славянский язык. Униатская Церковь служила на этом
языке, и он-то спас галичан от окончательной полонизации. Он
постоянно напоминал о едином русском корне, о прямой
преемственности русского литературного языка с языком Киевской
Руси. Вот почему вожаки украинства так ненавидели и ненавидят
«церковно-славянщину»,
Москвофилы не ограничились
пропагандой русского языка и культуры, но начали проповедь
полного объединения Галиции с Россией, по каковой причине их
прозвали также «объединителями». Они заводили связи с русским
образованным обществом, главным образом через М. П. Погодина,
выпускали русские книги, издали сочинения Пушкина, а в конце
90-х годов во Львове образовалось литературное общество имени А.
С. Пушкина. Инициаторы движения, вроде Головацкого, Плещинского,
Наумовича, до такой степени прониклись сознанием необходимости
слияния русин с русскими, что сами, впоследствии, переселились
на жительство в Россию, где продолжали заниматься
научно-литературной деятельностью.
Сколь велико
было русофильство галичан во второй половине ХIХ века,
свидетельствует «сам» Грушевский. «Москвофильство, — по его
словам, — охватило почти всю тогдашнюю интеллигенцию Галиции,
Буковины и закарпатской Украины»
168.
Другим свидетельством может служить деятельность Драгоманова.
Сам он хоть и не проживал в Галиции (за исключением короткого
времени), но следил за нею внимательно, и когда убедился во
всеобщих симпатиях к России, стал через своих друзей и
единомышленников учреждать в Галиции русские библиотеки и
распространять русскую книгу. «Смело могу сказать, говорил он
впоследствии, — ни один московский славянофил не распространил в
Австрии столько московских книг, как я, 'украинский
сепаратист'». Преследуя, в первую голову, задачу
социалистической пропаганды и просвещения, и не будучи узким
националистом, он понял, на каком языке можно успешнее всего
добиться результатов в этом направлении. В 1893 г. он обращал
внимание своих надднепрянских читателей на факт неизменного
перевеса москвофилов на всех выборах в Сейм и в Рейхстаг. До
самой войны 1914 г. москвофильство пользовалось симпатиями
большинства галичан и если бы не эта мировая катастрофа,
неизвестно, до каких бы размеров разрослось оно. Но аресты и
избиения в начале войны, а особенно после кратковременного
пребывания в Галиции русских войск, нанесли ему тяжелый удар.
Русофильская интеллигенция оказалась уничтоженной
169.
Морально ее доконала большевицкая революция в России, открыто
принявшая сторону самостийнического антирусского меньшинства.
***
Это антирусское меньшинство называлось
«народовством», но, как часто бывает в политике, название не
только не выражало его сущности, а было маской, скрывавшей
истинный характер и цели объединения. Ни по происхождению, ни по
духу, ни по роду деятельности оно не было народным и самое бытие
свое получило не от народа, а от его национальных поработителей.
Поляки, истинные хозяева Галиции, были
чрезвычайно напуганы ростом москвофильства. Пользуясь своим
первенствующим положением и связями с австрийской бюрократией,
они сумели внушить венским кругам боязнь опасности могущей
произойти для Австрии от москвофильского движения и требовали
его пресечения. Австрийцы вняли.
Какого ни будь твердого взгляда на галичан в
Вене до тех пор не было; до середины 30-х годов их просто не
замечали. Когда вышла «Русалка Днестровая», директор австрийской
полиции Пейман воскликнул: «Нам поляки создают хлопот по горло,
а эти глиняные головы хотят еще похоренную рутенскую народность
возрождать»! Но вскоре «рутенская» народность пришлась кстати.
В 1848 г., когда
польское движение приняло угрожающий для австрийцев характер,
галичане были натравлены на поляков. Такое же натравливание едва
не произошло в 1863 г., когда галичанам было сказано, что пора
"den Herrn Polen einbeizen". Каждый раз такое обращение к
русинам сопровождалось ласками и предоставлением различных
привилегий. В 1848 г., по инициативе австрийцев была создана
«Головна Руска Рада» — некое подобие русинского парламента. Рада
издавала «Зорю Галицкую» и основала Народный Дом в Львове, но
будучи искусственно порожденной, просуществовала недолго. В 1851
г. полякам удалось сговориться с австрийцами и те перестают
поддерживать русин. Рада распадается. Эта слабость и
беспомощность перед поляками усиливала москвофильское движение.
Особенный подъем русских симпатий начался с
1859 г., когда полякам удалось захватить управление Галицией
полностью в свои руки и встать в качестве средостения между
русинами и австрийским правительством.
Назначенный наместником Галиции польский граф
Голуховский повел систематическое преследование всего, что
мешало полонизации края. Жертвами его стали, прежде всего,
деятели русофильской партии, в частности Я. Ф. Головацкий,
занимавший с 1848 г. кафедру русского языка и литературы во
Львовском университете. Голуховский вытеснил его не только из
университета, но удалил, также, из двух львовских гимназий и
запретил к употреблению составленные им учебники. В значительной
мере под влиянием этих преследований, Головацкий переселился в
1867 г. в Россию, где сделался председателем комиссии для
разбора и издания древних актов в Вильне. Такова же судьба
некоторых других видных русофилов, вроде Наумовича. Но
наибольшее впечатление на русин произвел выдвинутый Голуховским
проект введения в галицкой письменности латинского алфавита, так
называемого «абецадла», грозившего им окончательной
полонизацией. Все русское с этих пор стало пользоваться
особенной популярностью, а русская азбука и церковно-славянский
язык стали знаменем в борьбе с воинствующим полонизмом.
Поляки, впрочем, скоро поняли, что
полонизация галичан в условиях Австрийской Империи — дело
нелегкое. Нашлись люди доказавшие, что оно и ненужное.
Украинизация сулила больше выгод; она не столь одиозна, как
ополячивание, народ легче на нее подастся, а сделавшись
украинцем — уже не будет русским.
В этом духе началась обработка венского
правительства, которому идея украинизации нравилась тем, что
позволяла перейти из оборонительного положения в наступательное.
Обрусение галичан чревато было опасностью
отделения края, украинизация не только не несла такой опасности,
но сама могла послужить орудием отторжения Украины от России и
присоединения ее к Галиции. Полагали, что хорошей приманкой в
этом отношении станет конституция 1868 г., по которой все
населявшие Австрийскую Империю национальности получили
равноправие и культурную автономию. Галичанам ставилась задача:
прельстить Украину этой конституцией.
«Русско-украинское слово, — писал львовский профессор О.
Огоновский, — замолкло в южной России и пользуется мирным
приютом только в монархии австро-венгерской, где конституция
дает отдельным народностям свободу оберегать исконные народные
права».
Австрийцы, по видимому, до такой степени
увлеклись мечтами об отторжении Украины, что с течением времени
возникла идея подыскать для будущего украинского королевства
достойного кандидата на трон, какового нашли в лице принца
Вильгельма Габсбургского, названного Василем Вышиванным. В Вене
и в Львове заинтересованные круги убедили «Василя» перейти из
латинского обряда в Унию. Сам наследник австрийского престола
Франц-Фердинанд принял горячее участие в этой авантюре.
Как только польский план в Вене получил
санкцию, в Галиции тотчас возникла «народная» партия в
противовес «объединителям» (москвофилы) и целый вспомогательный
аппарат в лице О-ва «Просвита», газет «Правда», «Дило», «Зоря»,
«Батькивщина» и многих других.
Ядро и основу «народной» партии составило
униатское духовенство. Уния, в свое время, задумана была в целях
денационализации подвластного Польше русского населения, но цели
своей не достигла. Через несколько поколений после
насильственного обращения, галицкое население стало
рассматривать свою новую Церковь, как «национальную», отличную
от польской. Но то обстоятельство, что униаты находились в
юрисдикции Ватикана, испытывая постоянное влияние иезуитов,
венских и краковских папских миссий, не могло не наложить печати
на галицкое духовенство. Оно не могло выйти из русла
общественно-политических идей католицизма и сделалось
распространителем ультрамонтанства в крае. Особенно ревностно
служил этим целям «Русский Сион» — орган львовских церковников.
Он же стал одним из органов «народовства» и даже начал с
некоторых пор печататься в типографии «Наукового Товариства им.
Шевченка», А. О. Качали, политический руководитель униатского
духовенства, сделался председателем этого «товариства» —
любимого детища народовской организации. «Правда», главный орган
народовцев, не только оказывала всяческое почтение «Русскому
Сиону», но в 1873 году распространяла предвыборный манифест
клерикалов. Немало молодых людей из духовенства вступило в ряды
народовцев.
Светская народовская интеллигенция
чрезвычайно довольна была таким союзом. Драгоманову приходилось
неоднократно слышать от львовских украинофилов, что Уния — «саме
украинська вира бо вкупи и православна и не москивська». Эта
светская интеллигенция представлена была большею частью поэтами,
литераторами, учителями, чиновниками. Среди них встречалось не
мало поляков, умело прикидывавшихся друзьями галицийского народа
и рьяно поддерживавших украинизацию.
Уже из этих кратких сведений можно заключить
об общественно-политическом и культурном лице народовства. Оно
задумано как строго охранительное, с точки зрения австрийской
государственности и польских аграриев. Униатское
ультрамонтанство придало ему колорит, явившийся полной
неожиданностью для Драгоманова, стремившегося изо всех сил в
Галицию — обетованную землю свободы. Как раз в тот год, когда
ему удалось вырваться из фараонской России, в Галиции разыгрался
любопытный эпизод. Туда пришло из Праги новое двухтомное издание
«Кобзаря», в которое попали стихи и поэмы дотоле не
издававшиеся. Это было в пятнадцатую годовщину смерти Шевченко.
Нынешний читатель, знающий, каким ореолом святости окружен у
галичан «пророк и мученик Украины-Руси», подумает, что «Кобзарь»
был встречен с колокольным звоном. Встреча, однако, вышла совсем
иной. Весь клерикальный Львов кипел возмущением. Требовали
отмены вечеров и празднеств, назначенных по случаю траурной
годовщины. Профессор Омельян Огоновский написал в «Русском
Сионе»: «Заявляю публично, що если бы я був знав, що в
Станиславови устрояется вечер в память Шевченко, то бувбим
учеником моим таки из кафедри заказав удил в том брати».
Причина такой Реакции заключалась в стихах
«апостола», совершенно неприлично звучавших для церковного уха:
«Все брехня: попи й цари». Или:
. . . . . будем, брате,
З багряниць онучи драти,
Люльки з кадил закуряти,
«Явленными» печь топити,
Кропилами будем, брате,
Нову хату вымитати.
Атеизм Тараса Григорьевича был замечен еще в
России, где на него составили, однажды, протокол по поводу
богохульных речей. Максимович сам рассказывал Костомарову, что
под Каневым Шевченко держал речь в шинке про Божью Матерь,
называя ее «покрыткой» и отрицая непорочное зачатие. Поэма его
«Мария», написанная, видимо, под впечатлением пушкинской
Гаврилиады, вполне подтверждает наличие у него таких взглядов.
Особенно возмутила Огоновского сцена с Архангелом Гавриилом,
когда он «у ярочку догнав Марию...». Едва ли, однако, не самыми
одиозными были стихи о Папе Римском:
На апостольском престоле
Чернец годованый сидить.
«Одно еще було отрадою нашою, — писал
Огоновский, — що у нас не було до сих пор контррелегийных
(антирелигиозных) писем в языци руським. Теперь, однако, и тии
появились, а то в роди поэзий шевченковских». Обнаружив в этих
«поэзиях» «много такого, що вири, й моральности есть шкодливе» —
клерикалы обрушились на общество «Просвиту» главного виновника
пражского издания «Кобзаря» и распространителя его в Галиции. И
тут воочию стало ясно, кто хозяин народовского движения.
«Просвита» вела себя, как провинившийся школьник и робко
оправдывалась, ссылаясь на то, что Шевченко не католик и не
знает хорошо догматов. Ссылались на его душевную
неуравновешенность, как результат перенесенных в ссылке
страданий, но «поэзий» своего пророка никто и не думал защищать.
В умаление своей вины «Просвита» указала на то, что вредное
влияние шевченковских стихов на юношество сведено к минимуму,
благодаря разделению «Кобзаря» на два тома. В первом собрано
все, что народ может читать без вреда для своего умственного и
нравственного здоровья, и, только во второй том попали «опасные»
произведения. Но второй том выпущен в меньшем количестве
экземпляров, стоит гораздо дороже и продавать его будут не
всякому, а так сказать, «смотря по человеку». Шевченко оказался
поделенным на две части — одну для профанов, другую для
посвященных.
Опасен он был и такими поэмами, как
«Гайдамаки», где воспевается резня польских панов украинскими
мужиками. Мотив ненависти крестьян к барам совершенно был
неприемлем для Галиции, и Шевченко стали причесывать в местном
вкусе. Когда львовское народовство не определилось еще и не
сформировалось, галицкие газеты вроде «Меты», «Вечерныци»,
помещая статьи о певце «казацко-украинской республики» и рисуя
его пророком восстания против Москвы, не забывали всегда
прибавлять — «и Польши». Но уже к концу 60-х годов, особенно
после образования общества «Просвита», Польша изымается из
подобных контекстов. В книжке Ом. Петрицкого «Провидни идеи в
письмах Т. Шевченко», выпущенной в 1872 г., поэт представлен
только, как враг Москвы. В 1877 г., в «Газете Школьной», тот же
Петрицкий писал: «Шевченко був отвертим противником России и ии
панування над Украиной». Но ни о Польше, ни об Австрии,
владевшей изрядным куском территории, которую Петрицкий именовал
тоже Украиной, не сказано ни слова.
По свидетельству Драгоманова, на всех вечерах
и концертах, где декламировались стихи Шевченко, на всех чтениях
для народа, можно было заметить строгий отбор: все антипольское,
антиклерикальное, антипомещичье устранялось. Допускалось только
антимосковское.
Случай с «Кобзарем» был полной неожиданностью
для Драгоманова и, уже тогда раскрылись у него глаза на
народовство, названное им впоследствии «австро-польской
победоносцевщиной». Вместо свободы мысли, слова, совести и всех
демократических благ, ради которых покинул родину, он увидел в
конституционной стране такой вид нетерпимости и зажима, который
хуже цензуры и административных запретов. Церковный контроль над
умственной жизнью был ему особенно тягостен, он полагал, что
религия и общественно-политическая жизнь — две сферы, которые не
должны соприкасаться. В украинском вопросе он особенно стремился
к исключению каких бы то ни было религиозных тем и мотивов. Но
не так думали львовские «диячи».
Церковное
влияние им представлялось важнейшим политическим рычагом. В
продолжении второй половины ХIХ века, в Галиции шла деятельная
работа по перестройке Унии на латинское католичество. Возникшая
в ХVI веке, как ступень к переходу от православия в католицизм,
она теперь, через 300 лет, собиралась как бы завершить
предназначенную ей миссию. Инициатива исходила, конечно, от
польско-австрийских католических кругов и от Ватикана. Само
собой разумеется, что государственно-краевая польская власть
всемерно этому содействовала. Дошло до открытой передачи одного
униатского монастыря в ведение иезуитов. П. Кулиш выпустил, по
этому поводу, брошюру в Вене с протестом против возобновления
католического Drang nach Osten в Галиции; энергично восстали и
«москвофилы». Но среди народовцев началось брожение. Сначала,
большинство было явно против церковной реформы и посылало
совместно с москвофилами специальную депутацию в Вену для
выражения протеста, однако, под натиском реакционного крыла
возглавлявшегося «Моисеем львовских народовцев» Володимером
Барвинским, оппозиция большинства была сломлена и к концу 80-х
годов отказалась от противодействия реформе. Только небольшая
группа, собравшаяся вокруг газеты «Дело» — «щось бормоче проти
ней та не зважуется на ришучу оппозицию»
170.
Но и эта группа была яростной противницей, каких бы то ни было
симпатий к православию, проявлявшихся среди москвофилов.
Малейшее выступление в пользу православия вызывало у всех
народовцев, без исключения, крики об измене нации и государству
и немедленное обращение за помощью к панско-польско-католической
полиции.
Не меньше, чем веротерпимость, раздражала
народовцев «хлопомания» Драгоманова, его превознесение мужика,
простого народа, и постоянное напоминание о его интересах. На
этой почве у них и произошло первое столкновение с ним в
1876-1877 г.г. Защищать мужика против барина и натравливать его
на барина можно и желательно в русской Украине, но в польской
Галиции это означало «нигилизм», «космополитизм» и
государственную измену.
Надднепрянские деятели сильно просчитались
надеясь найти в Галиции тихую заводь, где бы они спокойно писали
антимосковские книги, прокламации, воспитывали кадры для работы
на Украине и создали бы себе надежную штаб-квартиру.
Гостеприимство им было оказано с полного одобрения австрийцев и
поляков, но в то же время дано понять, что тон украинскому
движению будут задавать не они, а галичане. Чтобы уяснить, что
это означало для самочувствия «схидняков», надо помнить, что
люди устремившиеся в Галицию, вроде Кулиша, Драгоманова, — по
уму, по образованию, по талантам, стояли неизмеримо выше своих
галицких собратьев. Самые выдающиеся среди галичан,
вроде Омеляна Огоновского, выглядели провинциалами в сравнении с
ними. «Для росиян галицка наука — схолястика, галицка
публицистика — реакцийна, галицка беллетристика,
псевдоклясична мертвечина», — писал Драгоманов
171.
Тем не менее, на него и на всех малороссов, во Львове, смотрели
сверху вниз, полагая, что оные малороссы «ни мовы ридной, ни
истории не знали», но кичливо посягали на западную
образованность, на немецкую философию и науку. «До принятия
мудрости нимецкой паны-украинци не були еще приспособлени, а
опроче культура чужа могла б таких недолюдкив зробити каликами
моральними». Так писала в 1873 году львовская самостийническая
«Правда». По словам этой газеты «таки недоуки, полизавши дешто
нимецкой философии, всяку виру в Бога мусили втратити. От и
жерело ужасного нигилизму».
Им отвели роль учеников и подручников,
кормило же правления осталось в руках местных украинофилов —
цесарских подданных и союзников польской шляхты. Поляки и
австрийцы не для того начинали игру, чтобы доверить ее
неизвестным и чужим людям. Контроль должен находиться в руках
местных сил. Пришельцам надлежало, выражаясь современным
советским языком, подвергнуться «перековке»; надо было
вытряхнуть из них москальский дух. А под москальским духом
разумелись, прежде всего, революция и социализм. Ведь то была
эпоха цареубийств, террора, хождения в народ и самого широкого
разлива революционных страстей.
Поляки, сами
прослывшие на Руси страшными революционерами, относились к
русскому революционному движению брезгливо. Им очень нравилось,
когда П. Лавров на банкете, или Вера Засулич на митинге в
Женеве, по случаю 50-летия со дня польского восстания 1830 г.
произносили горячие речи, причисляя это восстание к лику
мирового освободительного движения. Нравилась им постоянная
защита польского дела. Газета “Dzennik Polski” в 1877 г. писала:
«Московские революционеры нуждаются в поляках, как поляки в
московских революционерах». Но этот альянс с террористами и
нигилистами терпим был лишь в той мере, в какой его находили
полезным национальным видам Польши. Самый же нигилизм и
социализм представлялся ничуть не симпатичнее самодержавия и
считался явлением одного с ним порядка — порождением духа
варварской нации. В воспоминаниях старых революционеров можно
прочесть о неприязненном отношении польских эмигрантов,
проживавших в Швейцарии, к русской революционной молодежи —
студентам и студенткам цюрихокого университета. В том же Цюрихе,
в польском музее основанном графом Платтером, где директором
состоял Духинский, висела карта Европы с надписью пояснявшею,
что «туранская Московщина» всегда была отмечена знаком неволи и
коммунизма, тогда как «арийская Польша и Русь» — свободой и
индивидуальностью.
Галицийские поляки и выпестованные ими
«народовцы» иными взглядами на москалей, разумеется, не
отличались. «Русский Сион» — орган униатского духовенства писал
в 1877 г.: «Социализм и нигилизм распространены только в
северной России, которая переполнена тайными организациями и
завалена агитационными листками и брошюрами». Газета полагала,
что ни в Малой Руси, ни в Галиции подобное невозможно. Это не
мешало им в каждом «дияче» прибывавшем из Малороссии видеть
возможного носителя революционной бациллы. Схидняки
подвергались, своего рода, карантину. И вот оказалось, что у
самого крупного украинского лидера — Драгоманова — оная бацилла
обнаружена. Драгоманова встретили жестоким огнем. В печати
начали высказывать предположения о нем, как об агенте царского
правительства. Пришли к заключению, что царизм в своих происках
дошел до идеи разложения Галиции изнутри путем посылки туда
украинских социалистов. «Сотки рублив видають на вигодне житье
по метрополиях чужих, сотками оплачують далеки дороги, сотки
видають на публикации...», — писала «Правда». Драгоманова
форменным образом затравили, так, что он вынужден был бежать в
Женеву. Против друзей его возбудили судебное преследование. В
1877-1878 г. г. во Львове состоялось несколько процессов
«социалистов». На процессах выяснилось, что галичанам и их
хозяевам полякам страшен был не социализм, как таковой. Поляки
привыкли делить социализм и социалистов на плохих и хороших.
Хорошими были те, что поддерживали помещичьи польские восстания,
ратовали за возрождение старопанской Польши и не вели агитации
среди крестьян. В этом смысле, больше всего привлекала их
немецкая социал-демократия, высказывавшаяся наиболее горячо за
восстановление польского государства. Но стоило кому-то из
немцев подать идею об издании листка на польском языке для
пропаганды социализма среди познанских поляков, как
польская печать злобно ощерилась на вчерашних друзей.
Так и социализм Драгоманова не вызвал бы
столь острой реакции, если бы отличался более или менее
безразличной для поляков окраской. Но он был, как раз,
антипольский, антипомещичий. Драгоманову, как историку и как
малоруссу, был хорошо известен ложный характер польской
шумихи в Европе. Он много возражал Марксу и марксистам,
отожествлявшим национальное возрождение Польши с успехами
мировой революции, и столь же энергично боролся против
механического усвоения этого взгляда русскими марксистами и
революционерами близкими к Первому Интернационалу. Польские
восстания и вся национально-освободительная борьба поляков
представлялись ему реакционными старопанскими бунтами с целью
возродить осужденную историей феодальную Речь Посполиту,
считавшуюся всегда «адом для крестьян», особенно
ино-национальных. Запад, по его словам, знал только обращенное к
нему лицо национально угнетенной Польши, но не замечал ее
угнетательского лица на Востоке, где она выступала поработителем
чужих национальностей. Лозунг «за нашу и вашу свободу!»
останется ложью, по мнению Драгоманова, до тех пор, пока поляки
не откажутся считать «своими» литовские, латышские, белорусские
и украинские земли. В таком смысле он и развивал свои взгляды в
Галиции. Дело национального освобождения украинцев в областях
распространения польского землевладения понималось им, мак
борьба украинского крестьянства с панами. На львовском процессе
1877 г. оглашено было его письмо к Павлику, найденное при обыске
у польского социалиста Котурницкого. В нем Драгоманов писал:
«Польские социалисты должны с первого же раза заявить, что их
целью никоим образом не может быть восстановление польского
государства 1772 г., даже социалистического, но организация
польского народа на польской земле, в связи с украинскими
социалистами, которые организуют свой народ на его земле».
Не трудно представить впечатление,
произведенное такими высказываниями на галицких поляков. Никакие
самые злостные террористы и коммунисты не могли вызвать большего
беспокойства. Народовству предстояло показать, в какой степени
оно заслуживает доверия и способно ли выполнить возложенную на
него миссию? Справилось оно со своей задачей превосходно: в
статье «Прояви социалистични миж украинцями и их значинье»,
«Правда» заявила вполне определенно, что если приднепрянская
интеллигенция успела подпасть под влияние таких «лжепророков»,
то галицкие ее друзья должны будут «з пекучим болем в сердцу...
взяти розбрат» с своими закордонными коллегами, а вину за такой
печальный конец возложить на самих лжепророков.
Сделавшись дважды эмигрантом, Драгоманов из
Женевы следил за львовскими делами, вел через друзей
«просветительскую» деятельность, вербовал сторонников и тратил
много усилий, чтобы создать свою фракцию в народовском лагере.
Под конец ему удалось образовать радикальную группу, но этот
успех вряд ли стоил понесенных затрат. Группа так бледна была во
всех своих проявлениях, состояла, из такого негодного материала,
что не пережила своего творца и была сведена на нет
оппортунистом Грушевским. Драгоманов долго не терял надежды
поладить с народовцами и полностью отдаться той работе, ради
которой уехал из России. В 1889 году наступило что-то вроде
амнистии. Он снова едет во Львов и принимает редактирование
крупного народовского органа «Батькивщина».
Сотрудничество и на этот раз оказывается
коротким. Через несколько месяцев он бросает работу и уезжает из
Галиции, чтобы никогда в нее возвращаться. По собственному его
признанию, он старался избегать всего, что могло бы вызвать
недовольство местных самостийников, но это оказалось не простым
делом. Ему предложили — либо отказаться от своих принципов и
вести журнал так, как этого требовала народовская элита, либо
сложить редакторские обязанности. Он избрал последнее. «Мне
пришлось претерпеть ужасные муки в борьбе с народовцами», —
признавался он впоследствии.
Драгоманов был
не единственным, испытавшим галицийское гостеприимство. Кулиш,
уехавший туда в начале 80-х годов и прожившей в Галиции около
3-х лет, тоже не мог сойтись с народовцами. В 1882 г. вышла во
Львове его книга «Крашанка» — сплошной вопль отчаяния: “O
ribaldi flagitiosi! Я приехал в вашу подгорную Украину оттого,
что на днепровской Украине не дают свободно проговорить
человеческого слова; а тут мне пришлось толковать с телятами.
Надеюсь, что констатируя факты способом широкой исторической
критики, я увижу вокруг себя аудиторию получше. С вами же,
кажется, и сам Бог ничего не сделает, такие уж вам забиты гвозди
в голову».
***
|
|
|
|
Стр.9
|
|
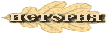 |
|
|
|
|
|
|