|
|
|
|
|
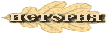 |
|
Стр.10
|
|
|
|
|
Народовцы не только социализма не принимали,
но ни о какой славянской федерации слышать не хотели. По словам
Драгоманова, они не желали следовать, даже «казацко-украинскому
народовстви и республиканстви». Иными словами, на идеи и
лозунги, под которыми развивалось русское украинство, в Австрии
был наложен интердикт. Патриотизму киевскому противопоставлен
патриотизм львовский и он считался истинным. Народовцы объявляли
себя выразителями не одних галицийских чаяний, но буковинских,
карпаторосских и надднепрянских.
Если в Киеве носились с идеей объединения
всех славян, в том числе и русских, то во Львове это означало
государственное преступление, грозившее развалом цесарской
империи. Вместо славянской федерации, здесь говорили о
всеукраинском объединении. Практически это означало соединение
Украины с Галицией. Мыслилось оно не на республиканской основе;
народовцы были добрые подданные своего императора и никакой
другой власти не хотели. Полагая, что конституция 1868 года
открыла для них эру благоденствия, они хотели распространения
его и на своих «закордонных» братьев украинцев.
Называться украинцами, а Галицию именовать
Украиной, народовцы начали во утверждение своего права
заботиться и болеть сердцем за этих братьев стонавших под
сапогом царизма. Галичан и малороссов объявили единым народом,
говорящим на одном языке, имеющим общую этнографию. Стали
популяризировать неизвестных дотоле в Галиции малорусских поэтов
и писателей — Котляревского, Квитку, Марко Вовчка, Шевченко.
Эпизод 1876 года лишь на время поколебал треножник «Великого
Кобзаря». Как только удалось принарядить его на польский манер и
спрятать куда-то «несозвучные» с народовством стихи, он был
восстановлен в своем пророчестве и апостольстве.
Приняв казачье имя Украины и украинцев,
народовцы не могли не признать своим родным и казачьего
прошлого. Его «республиканством» и «демократизмом» не
восхищались, но его русофобия, его песни и «думы», в которых
поносилась Москва, пришлись вполне по душе. Стали создавать моду
на все казачье. Как всякая мода, она выражалась во внешности. По
львовским улицам начали, вдруг, разгуливать молодые люди одетые
то ли кучерами, то ли гайдуками, вызывая любопытство и
недоумение галичан, никогда не знавших казачества. Позднее, в
сельских местностях стали возникать «Сечи». Так именовались
добровольные пожарные дружины. Каждая такая Сечь имела своего
«кошевого атамана», «есаула», «писаря», «скарбника», «хорунжего»
и т. д. Тушение пожаров было делом второстепенным; главное
занятие состояло в церемониях, в маршировках, когда во главе
отряда таких молодцов в синих шароварах шел «атаман» с булавой,
трубил «сурмач», а «хорунжий» нес знамя. Этим достигалось
воспитание в соборно-украинском духе.
Никому, однако, в голову не приходило идти в
своих казачьих увлечениях дальше костюма, особенно во всем, что
касалось запорожского отношения к государственной власти и к
Польше. По словам Драгоманова, народовская партия «не только
мирилась с австро-польской правительственной системой, но сама
превращалась в правительственную». Всякая тень агитации либо
выпадов против Австро-Венгрии и Польши устранялась из ее
деятельности.
Австрийским министрам никогда не писали таких
«открытых писем», как адресованное русскому министру внутренних
дел Сипягину и напечатанное во Львове в 1900 году: «Украинська
нация мусит добути соби свободу, хоч бы захиталась цила Росия.
Мусить добути свое визволення з рабства национального и
политичного, хоч бы полилися рики крови»
172.
По всем высказываниям «народовцев» выходило, что Россия
единственный угнетатель племен «соборной Украины». Напечатав в
том же 1900 году брошюру Н. Михновского «Самостийна Украина»,
провозглашавшего ее «вид гир Карпатьских аж по Кавказки», они ни
словом не обмолвились о том, что для образования столь
пространной державы препятствием служит не одна Россия.
Элементарный политический такт требовал, чтобы для той части ее,
что помещалась возле «гир Карпатських», указан был другой
национальный враг. Между тем, ни австрийцы, ни венгры, ни поляки
в таких случаях не назывались.
Достойно внимания, что и в наши дни
галицийские пан-украинцы, отзывающиеся с такой злобой о старой
России, совершенно не упоминают Австрию в числе исторических
врагов украинской культуры и незалежности. В популярных историях
своего края, вроде «Истории Украини з иллюстрациями»
173,
цесарское правительство даже превозносится за учреждение школ «з
нимецкою мовою навчення». Благодаря этим школам, просвещение в
крае сделало такие большие успехи, что «все те впливало (влияло)
на культуру нашого народу, и так почалося наше национальне
видрождення». И на той же странице — яростная брань по адресу
русских царей, которые «завели московский устрий, московски
школы, та намагались завести российску мову замисть
украиньской». Нет числа возмущенным возгласам по поводу указа
Валуева об украинском языке, но ни один галичанин не отозвался
соответствующим образом о заключении правительственной
австрийской комиссии, высказавшейся в 1816 г. о галицийском
наречии, как совершенно непригодном для преподавания на нем в
школах, «где должно подготовлять людей образованных».
Получалась картина: люди боролись не за свое
собственное национальное освобождение и не с государством их
угнетавшим, а с чужим государством, угнетавших «закордонных
братьев». «Пропала славна Украина — клятый москаль орудуе».
Гей москалю бисыв сыну,
Чортова дытыно,
Погубивесь ты свит цилый,
Цилу Украину.
Ничего, что стихи эти принадлежат не русину,
а поляку Паулину Свенцицкому, они были «в самый раз» и задавали
тон народовской прессе. Подхватывая их, журнал «Вечерница»
писал: «Москали топчут на Украине правду и свободу, но пусть
боятся малороссов: придет Божий суд и когда ни будь малороссы от
Карпат до Кавказа сотворят такия поминки, что будет памятно
внукам и правнукам». Это переклад стихов Ксенофонта Климковича.
Столь же агрессивен этот писатель и в прозе. «Малорусский народ
имеет на востоке Европы свою особую миссию: западные славяне
вместе с малороссами начнут борьбу против северного опекуна и
отбросят его на восток... к Пекину». Владимир Шашкевич призывал
«славянскую Австрию» отбросить Москву на север, «ибо Москва —
опаснейший и грознейший враг прочих славян: она хуже Турции
гнетет братние славянские народы»
174.
Программный характер таких высказываний
засвидетельствован, впоследствии, обществом «Просвита»,
поставившим Климковичу и Шашкевичу в заслугу, приготовление
«грунта до дальшой, успишнийшой роботы на народном поли».
***
Из всех
ненавистников России и русского народа, галицийские панукраинцы
заслужили, в настоящее время, пальму первенства. Нет той брани,
грязи и клеветы, которую они постеснялись бы бросить по адресу
России и русских. Они точно задались целью все скверное, что
было сказано во все времена о России ее врагами,
сконцентрировать и возвести в квадрат. Что русские не славяне и
не арийцы, а представители монголо-финского племени, среди
которого составляют самую отсталую звероподобную группу, что они
грязны, вшивы, ленивы, трусливы и обладают самыми низменными
душевными качествами — это знает каждый галицийский самостийник
с детского возраста. Какой-то профессор Г. Ващенко, в журнале
«Ридне Слово» (№ 9-10 за 1946 г.), размышляя о «Психологичних
причинах недоли украинського народу», усмотри эту «недолю» в
соседстве с русскими, от которых украинцы, отличавшиеся всегда
«духовным аристократизмом», невольно набрались рабских
плебейских замашек, потому что русские с их преклонением перед
жестокой и сильной властью — прирожденные рабы».
«Низкопоклонство, подхалимство, неискренность — вот свойства
типичного русского». В мюнхенском журнале “Slowo Polskie” от 18
мая 1946 г. появилось открытое письмо в редакции галичанина, не
пожелавшего поставить под ним своей подписи.
Письмо
начинается с того, что автора чуть не хватил удар, когда он
прочел в одном из предыдущих номеров того же журнала
сочувственный строки о взаимной симпатии и приязни между
польским и русским народами. «Неужели еще в Польше никто не
догадался, что этот восточный империалист, в котором так мало
славянского и столь много азиатского — враг польский № 1?
Неужели действительно существует кто либо в Польше, кто еще
верит в дружбу или испытывает потребность дружбы с этим народом
славяно-финско-монгольских бастардов?» По словам безымянного
автора, лучше бы думать не о дружбе, а о том, как совместно с
другими народами, пострадавшими от русских, «загнать их куда ни
будь за Урал и вообще в Азию, откуда эти приятели прибыли на
несчастье человеческого рода»... Автор советует полякам дружить
не с русскими, а с украинцами, потому что «можно пройти весь
свет и не найти двух народов более похожих друг на друга, чем
польский и украинский». «Этнографическая граница между ними
проходит — посередине их брачного ложа». Объединяет их и
общеславянская миссия, как «самых чистых и самых старших
представителей древней славянской культуры». К своему высокому
обществу они могли бы привлечь разве только чехов. Вкупе с
чехами они составили бы ядро «той чудесной коалиции, которая
образуется между Балтийским морем, Адриатикой и Черным морем, и
которая будет достаточно мощной, чтобы держать на поводу
бастардов славяно-германских (пруссаков) на западе и бастардов
славяно-финско-монгольских, пруссаков востока». Чтобы не быть
превратно истолкованным и не дать повода думать об
антибольшевистском крестовом походе, автор поясняет: «Когда
говорят антибольшевистский блок угнетенных народов, то мыслят
блок анти-русский. Не в большевизме суть, она лежит в другом, а
именно — в опасном русском империализме, который извечно угрожал
обоим нашим народам. И поэтому наша борьба должна направляться
не только против большевизма, но против всякой
империалистической России, России большевистской и царской,
России фашистской и демократической, России панрусистской и
панславистской, России буржуазной и пролетарской, России
верующей и неверующей... России Милюкова и России Власова,
вообще против России, которая уже сама по себе синоним
империализма». Интересна здесь не злоба пышащая из каждой
строчки, а причина злобы. Откуда она? Быть может, это результат
занятия Галиции советскими войсками, или короткой оккупации ее
русской армией в 1914 году? Но если допустить такую версию, то
чем объяснить что вся теперешняя русофобия галичан — простое
повторение того, что они писали еще в ХIХ веке и до первой
мировой войны, когда никакой русской власти в глаза не видели и,
следовательно, не имели оснований быть ею недовольными? Расовые
теории и яростная брань по адресу России насчитывают добрую
сотню лет своего существования. Они, безусловно, не местного
русинского, а иноземного корня. Перед нами — любопытный случай
пересадки идеологии с одной национальной почвы на другую.
Русофобия, в том виде, в каком ее исповедуют сейчас галицийские
шовинисты, была получена в законченном виде от поляков. Насадив
панукраинское движете в Галиции, поляки снабдили его и готовой
идеологией. К восприятию ее галичане подготовлены еще со времен
Унии, когда им внушали, будто не они отступники от
греко-православной Церкви, а эта последняя представляет собой
схизму, тогда как истинными сынами православного греческого
вероисповедания могут считаться только униаты.
Нам приходилось
уже обращать внимание на исключительную по энергии пропаганду,
развитую поляками в Малороссии после ее присоединения к России и
на старание поссорить малороссов с царским правительством. В
горниле этой кипучей деятельности выработалась постепенно вся
сумма воззрений на русских и на украинцев, которая в ХIХ веке
была систематизирована, получила наукообразную форму и вручена
была галичанам, как евангелие украинского национального
движения. Выработка этой теории связана с именем польского
профессора Духинского.
Франциск
Духинский родился в 1817 г. и по происхождению был малоросс,
хотя уже родители его оказались захвачены польским патриотизмом
и польскими устремлениями. Выросший настоящим поляком, он с
молодых лет интересовался русско-польскими отношениями в
древности и писал в конце 30-х годов какие-то сочинения на эту
тему. Эмигрировав, он поселился в Париже, потом в Швейцарии, жил
в Италии, в Константинополе, потом опять в Париже, где стал
профессором местной польской школы. Известность приобрел своими
парижскими публичными лекциями по польской истории, в которых и
развил; знаменитую теорию о взаимных отношениях славянских
племен. Успех его чтений среди французов был исключительный и
объяснялся, кроме обычного для них невежества в вопросах
славистики, также и русофобией, широко распространенной в
тогдашней Франции. Исторические опусы свои Духинский напечатал в
1847-1848 г. г. в одном из польских изданий в Париже, а в
1858-1861 г.г. выпустил в виде трехтомного труда под заглавием
“Zasady dzejow Polski I innich krajow Slowianskich”.
Труд этот давно
забыт и ни одним ученым всерьез не принимается. Интересен он
только, как документ общественно-политической мысли своего
времени. Излагая взаимоотношения поляков с прочими славянскими
народами в прошлом, автор наибольшее внимание уделяет Руси.
Русь, по его словам, представляет простую отрасль, разновидность
народа польского; у них одна душа, одна плоть, а язык русский —
только диалект, провинциальное наречие польского языка. Конечно,
под Русью надлежит разуметь не тот народ, который себя называл
этим именем в ХIХ веке — не московитов. Русь — это галицкие
русины и малороссы, которые только и достойны называться русским
именем, тогда как современные русские присвоили это имя
незаконно и в старину назывались московитами и москалями.
Произошло это присвоение сравнительно недавно, с тех пор, как
московиты захватили часть «русских» (украинских) территорий с их
населением.
Екатерина Вторая высочайшим повелением
даровала московскому народу имя русского и запретила называться
древним именем «москвитян». В этом сказался, как бы, стыд
варвара, вступившего в высшее культурное общество и захотевшего
украсить себя именем благородного народа, спрятав свое хамское
дикое имя подальше. В то время, как русские, т. е. русины —
чистые славяне, москали ничего общего со славянством не имеют.
Это народ азиатский, принадлежащий к финско-монгольскому
племени, и только слегка ославянившийся под влиянием русских
(украинцев). Духинский категорически отрицает за москалями
арийское происхождение, относя их к туранской ветви народов.
Отсюда выводятся все низкие умственный и нравственные качества
москалей и все ничтожество их культуры.
Большая часть
польских образованных кругов приняла теорию Духинского с
восторгом и повторяла ее на все лады. Во Львове в 1882 г. вышла
книга некоего Бестроннаго “Przestroga Historji” (предостережение
истории), где автор рассыпается изумительными вариациями на тему
Духинского. По его словам, из 90 миллионов жителей Российской
Империи, только четвертая часть говорит языком российским, и
притом начала говорить им «не дальше, как сто лет тому назад».
По словам автора, этот язык, происходящий от славянского языка,
распространялся вместе с религией среди народов московского
государства еще тогда, когда в них не было ни капли славянской
крови. «Жители империи особой московской народности не имели
мужества называться тем, чем они были в действительности, не
имели мужества называться москалями, им казалось, что это
оторвет их от Европы... В удивительном смешном ослеплении они
думали, что имя москаля тождественно с варваром и что название
их россиянами защитит их от укоров в варварстве. Им казалось,
что Европа не знает о том, что делается в этой России, а хотя бы
и знала — они лучше хотели быть варварами европейскими, чем
достойным свободным народом московским, хотели лучше угнетать и
быть угнетаемыми, чем принять название москалей и признать себя
финско-монгольским племенем, они назвались славянами».
Произведений подобных этому появилось
множество, благодаря чему теория Духинского приобрела широкую
известность, не только в польских землях, но и за границей. Она
была воспринята французским историком Анри Мартеном и по причине
полной неосведомленности европейцев о России долго процветала во
Франции, как «научная». Понадобился авторитет Рамбо, чтобы
вывести французскую науку из недостойного положения.
Русские
украинофилы встретили учение Духинского отрицательно. В 1861
году, в ответ на появившуюся в сентябрьском выпуске “Revue
Contemporaine” статью “La verite sur l’esprit russe”, Костомаров
напечатал в «Основе» отповедь «Правда полякам о Руси» с
возражениями на исторические рассуждения Духинского.
Совсем иначе отнеслись к духинщине
галицийские панукраинцы. Для них она явилась той идейной манной,
на которой они возросли и которой питаются до сих пор. Они пошли
на выучку к польскому шовинизму. Наибольшим успехом он
пользовался именно во Львове — столице Галиции. Здесь собралась
наиболее рьяно, наиболее гонорово настроенная часть польских
националистов, главным образом, участников неудавшегося
восстания 1863 г.
Кичливая
заносчивость при жалком положении, позерство, самовосхваление,
путчизм, страсть к заговорам и баррикадам, непрестанный
барабанный бой в речах и в печатных выступлениях снискали им,
даже у самих поляков, прозвание «трумтадратов». Эта группа
никогда не ломала головы над размышлениями об излечении вековых
болезней своей страны, дабы подготовить ее организм к
возрождению. Она и слышать не хотела об этом, но бранила Россию
на чем свет стоит, считая ее главной виновницей польских
разделов. Чем крепче обругать, чем глубже унизить ее в своих
речах, тем ближе казался день возрождения Польши. Духинсккий
стал их кумиром, а Львов — местом пышного цветения его теории. К
ней присоединили и «Историю Русов». Сам Духинский высоко ценил
это произведете. В своей книге «Peuples Aryas et Tourans»,
вышедшей в Париже в 1867 г., он назвал его «обвинительным
документом против Москвы».
***
Национальная доктрина «Украинского Пьемонта»
ясна: быть украинцем, значит быть антирусским. «Если у нас идет
речь об Украине, то мы должны оперировать одним словом —
ненависть к ее врагам... Возрождение Украины — синоним ненависти
к своей жене московке, к своим детям кацапчатам, к своим братьям
и сестрам кацапам, к своим отцу и матери кацапам. Любить Украину
значит пожертвовать кацапской родней»
175.
О том, к каким страстям и настроениям апеллировал этот лозунг в
самой Украине и как это отразилось на днепровском национализме,
скажем в следующей главе. Здесь же упомянем, хоть вкратце, о
заключительном этапе галицкого народовства.
С началом первой
мировой войны, оно проявило свое лицо созданием отрядов
австрийских янычар, под именем Сычевых Стрельцов, а также
всевозможных шнионско-диверсантских организаций типа «Союза
Вызволения Украины», работавших в пользу Австрии против России.
Но мировая война кончилась крахом Австрийской Империи и полным
переворотом в судьбе Галиции. Она оказалась, как полтораста лет
тому назад, в составе возродившейся Речи Посполитой. Поляки
сделались теперь не краевой, а государственной властью для
русин; все их поведете резко изменилось. Возродились религиозные
и национальные притеснения в формах, напоминающих ХVIII век.
Изменилось, разумеется, и отношение к народовской партии. Она им
стала не нужна. Кое что в ее практике допускалось, как приманка
для подсоветских украинцев, но во всем остальном она было
стеснена и ограничена. Два былых союзника превратились
постепенно во врагов.
Но тут и сказалась сила инерции. Несмотря на
то, что Польша стала, отныне, врагом номер 1 и яростным
угнетателем галичан, национальная идеология «Украинского
Пьемонта» осталась, как прежде, заостренной не против нее, а
против Москвы. Переменить или преобразовать ее галичане
оказались неспособны. Они пронизали ею всю свою печать, труды и
учебники по украинской истории и подчинили ей систему воспитания
молодого поколения. Детям самого нежного возраста внушали
расово-ненавистнические взгляды на москалей, целые поколения
оказались воспитанными в принципах духинщины и трумтадратства.
Не изменила их и вторая мировая война,
уничтожившая, снова, независимую Польшу. Уйдя в эмиграцию,
народовство осталось верным до сего дня духовному наследию 70-х
и 80-х годов.
«ФОРМАЛЬНЫЙ НАЦИОНАЛИЗМ»
Мы здесь не пишем истории самостийничества.
Наша задача проследить, как создалось его «идейное» лицо. На
Украине, к концу 70-х и в 80-х годах, оно совсем было утрачено.
Перестав быть частью революционного или, по крайней мере,
«прогрессивнаго» движения, украинство не знало, чем ему быть
дальше. Лучшая часть «Громады» продолжала заниматься учеными
трудами, писала стихи и романы, но огня, оживлявшего
деятельность первых украинофилов от Рылеева и
кирилло-мефодиевцев до Драгоманова, не было. Зато возник угарный
чад, какой исходит от тлеющих углей после того, как пламя
потухнет. Начался безыдейный украинизм, не ищущий себе смысла и
оправдания. В отличие от своего предшественника он не задавался
вопросом: зачем надо было внушать малороссийскому крестьянину,
что он — «окрема» национальность, зачем надо было обучать его в
школе не на общерусском письменном языке, а на разговорной мове?
Костомаров и Драгоманов имели на этот счет обоснованное
суждение, исходившее из соображений социального и политического
прогресса. Никаких таких соображений у последующих украинофилов
не было. Их логика проста: раз нас «пробудили» и назвали
украинцами, особой национальностью, так надо и быть ею, надо,
как все порядочные нации, обладать своей территорией, своими
государством, языком, национальным флагом и своими послами при
иностранных дворах.
Народился тип националиста, готового мириться
с любым положением вещей, с любым режимом, лишь бы он был «свой»
национальный. От 70-х и 80-х годов тянется нить к тому эпизоду
1919 г., когда один из членов Директории на заседании Украинской
Рады заявил: «Мы готовы й на совитьску владу, аби вона была
украинська». Никто тогда оратору «не заперечил» и, впоследствии,
многие видные деятели самостийничества, во главе с М.
Грушевским, перешли к большевикам, удовлетворившись внешвей
национальной формой советской власти на Украине.
Проф. Корсаков рассказывает в своих
воспоминаниях
176
о киевской молодежи, которая в 70-х годах группировалась вокруг
Костомарова. Молодые люди любили и почитали его, называли
«дидом», но в их обращении с ним заметна была ласковая
снисходительность, какая бывает, иногда, к милым, но выжившим из
ума старичкам. Чувствовалось, что его чтят за прежние заслуги,
но всерьез не принимают. Он высказался против искусственного
создания нового литературного языка — ему на это не возразили,
но язык продолжали сочинять с удвоенной энергией. Он предостерег
от увлечения распространенным в Галиции учением Духинского,
насыщенным ненавистью к москалям, — ему опять ничего не
возразили, но национальная доктрина все более проникалась идеями
Духинского. Он пользовался каждым случаем, чтобы заявить об
отсутствии у украинского движения намерения отделить свой край
от России или даже посеять семена розни между двумя братскими
ветвями русского племени — а украинское движение, в это время,
делало все, чтобы заложить основу такой розни. Напрасно он
уверял весь мир, будто украинофильство ничего не ищет, кроме
умственного, духовного и экономического развития своего народа,
— он говорил только за самого себя. Воспитанному им юношеству
уже тогда грезилась возрожденная рада, гетманы, бунчуки,
червоные жупаны и весь реквизит казачьей эпохи.
Драгоманов, строго, осуждавший такой образ
мыслей, прозвал его «формальным национализмом». Его насаждение
шло параллельно с ростом нового поколения и с превращением
украинского самостийничества в провинциальный отголосок
галицкого народовства. Кто не принял запрета наложенного на
антиавстрийскую и антипольскую пропаганду, не дал ясных
доказательств своей русофобии, кто не поцеловал туфли львовского
ультрамонтанства, тот как бы отчислялся от самостийничества.
Люди нового склада, не державшиеся ни за
социализм, ни за космополитизм, полуобразованные, не
чувствовавшие уз, что связывали прежних украинофилов с русской
культурой, начали целовать эту туфлю и говорить о России языком
Духинского.
Это они были теми «масками, размахивавшими
картонными мечами», о которых писал Драгоманов. Еще в 70-х годах
они развили подозрительную деятельность по ввозу галицийской
литературы в Малороссию. Они же поставляли ложную информацию
галичанам, внушая миф о существовании проавстрийской партии на
Украине. Впоследствии, к началу 90-х годов, когда эти люди вышли
на передний план, в них уже трудно было распознать малороссов.
Многие отреклись от своих учителей, осудили их, назвав
«поколением белых горлиц» — прекраснодушных, но абсолютно
недейственных. Они преисполнялись боевого пыла, требовали рек
русской крови, беспощадной борьбы с московщиной.
Вождем этого поколения и наиболее
последовательным выразителем формального национализма стал
Михаил Сергеевич Грушевский — питомец Киевского университета,
ученик проф. В. Б. Антоновича. Он сделался тем идеологом
безыдейности, которого недоставало формальному национализму. Он
же блестяще выполнил задачу слияния днепровского украинства с
львовским народовством, будучи одинаково своим и на Украине, и в
Галиции. Человек он был, безусловно, талантливый, хотя вождем
самостийничества его сделали не идея, не новые оригинальные
лозунги, а большие тактические и маневренные способности. Только
этими способностями и можно объяснить, что он, прошедший
киевскую громадянскую (почти драгомановскую) школу,
переселившись в 1894 году в Галицию, не только был там хорошо
принят, но занял руководящее положение, стал председателем
Наукового Товариства им. Шевченко и в течете 20 лет оставался
признанным вождем панукраинского движения. Выполняя программу и
начертания народовцев, он сумел сохранить себя чистым от налета
«австро-польской Победоносцевщины» и не оттолкнуть группы
радикалов — последователей Драгомаиова, численно незначительных,
но пользовавшихся симпатиями заграницей. Он решился даже на союз
с ними при выборах в Рейхстаг в 1897 г., и это не отразилось на
благоволении к нему матерых народовцев.
Через два года он основал вместе с Романчуком
партию, которая хоть и состояла из элементов мало чем
отличавшихся от последователей Барвинского, но носила название
«Народно-Демократической». И опять это название прикрыло его от
нареканий слева, а в то же время практика партии, особенно «дух»
ее, вполне удовлетворяли барвинчиков.
Новая партия пошла, по выражению Грушевского,
«по равнодействующей между консервативным и радикальным
направлениями». Это была наиболее удобная для самого Грушевского
позиция. Она и на Украине, и среди русской революционной
интеллигенции не создала ему репутации реакционера, а в Галиции
избавила от обвинений в нигилизме и социализме.
Конечно, он дал
все доказательства лояльности в отношении Польши и Австрии и
соответствующей ненависти к России. Она ясно видна в его статье
«Украинсько-руське литературне видрожденне», появившейся в 1898
г., где он мечтает о «прекрасном дне, когда на украинской земле
не будет врага супостата»
177,
но особенно много клеветы и поношений России содержится в его
статье “Die Kleinrussen”, напечатанной в сборнике “Russen uber
Russland”, вышедшем во Франкфурте в 1906 г.
Если враждебных выпадов его против России
можно насчитать сколько угодно, то трудно привести хоть один
направленный против Австро-Венгрии. Особого внимания заслуживает
отсутствие малейшего осуждения Духинщины. Прежнее «поколение
белых горлиц» не по одним научно-теоретическим, но и по
моральным соображениям отвергло это расово-ненавистническое
учение. Грушевский ни разу о нем не высказался и молчаливо
принимал, тесно сотрудничая с людьми, взошедшими на дрожжах
теории, которой так удачно воспользовался в наши дни Альфред
Розенберг.
По отношению к
России, Грушевский был сепаратистом с самого начала. Сам он был
настолько тонок, что ни разу не произнес этого слова, благодаря
чему сумел прослыть в России федералистом типа Драгоманова. Даже
летом 1917 года, когда образовалась Центральная Украинская Рада
и тенденция ее основателей ясна была ребенку, многие русские
интеллигенты продолжали верить в отсутствие сепаратистских
намерений у Грушевского. Кое кто и сейчас думает, что будь
Временное Правительство более сговорчиво и не захвати большевики
власть, Грушевский никогда бы не встал на путь отделения
Украины от России. И это несмотря на то, что он летом 1917 г.
выдвинул требование выделения в особые полки и части всех
украинцев в действующей армии. Еще в 1899 г., в Галиции, при
создании «Национально-Демократической Партии», он включил в ее
программу тезис: «Нашим идеалом должна быть независимая
Русь-Украина, в которой бы все части нашей нации соединились в
одну современную культурную державу»
178.
Отлично понимая невозможность немедленного воплощения такой
идеи, он обусловил его рядом последовательных этапов. В статье
«Украинский Пьемонт», написанной в 1906 году, он рассматривает
национально-территориальную автономию, «как минимум, необходимый
для обеспечения ее свободного национального и общественного
развития»
179.
Все, что происходило на Украине в годы
революции, имело своим источником львовскую выучку Грушевского.
Он больше, чем кто либо, оказался подготовленным к руководству
событиями 1917 г. в Малороссии.
***
Главным делом жизни этого человека, над
которым он неустанно работал, был культурный и духовный раскол
между малороссийским и русским народами. То было выполнение
завещаний Духинского и «Истории Русой».
Началось с
«правописа». Это было еще до Грушевского. В течете тысячи лет,
малороссы и все славяне, за исключением католицизированных
поляков и чехов, пользовались кириллицей. Лингвистами давно
признано, что это лучшая из азбук мира, наиболее совершенно
передающая фонетику славянской речи. Ни одному малороссу в
голову не приходило жаловаться на несоответствие ее букв звукам
малороссийского говора. Не было жалоб и на типографский
«гражданский» шрифт, вошедший в обиход со времени Петра
Великого. Но вот, с середины ХIХ века начинается отказ от этой
азбуки. Зачинателем был Кулиш, в период своего неистового
украинофильства. «Кулешовка», названная его именем, представляла
ту же старую русскую азбуку, из которой изгнали, только, букву
«ы», заменив ее знаком «и», а для восполнения образовавшейся
пустоты расширили функцию «i» и ввели неизвестный прежнему
алфавиту знак «i'». Это та азбука, которая узаконена сейчас в
СССР. Но в старой России ее запретили в 90-х годах, а для
Галиции она с самого начала была неприемлема по причине слишком
робкого отхода от русского алфавита.
Русское
правительство и русская общественность, не понимавшие
национального вопроса и никогда им не занимавшиеся, не вникали в
такие «мелочи», как алфавит; но в более искушенной Австрии давно
оценили политическое значение правописания у подчиненных и
неподчиненных ей славян. Ни одна письменная реформа на Балканах
не проходила без ее внимательного наблюдения и участия.
Считалось большим достижением добиться видоизменения хоть
одной-двух букв и сделать их непохожими на буквы русского
алфавита. Для этого прибегали ко всем видам воздействия, начиная
с подкупа и кончая дипломатическим давлением. Варфоломей
Копитар, дворцовый библиотекарь в Вене, еще в 40-х годах ХIХ
века работал над планом мирной агрессии в отношении России. Он
ставил задачей, чтобы каждая деревня там писала по-своему. Вот
почему в своей собственной Галиции не могли довольствоваться
ничтожной «кулешовкой». Возникла мысль заменить русскую азбуку
фонетической транскрипцией. Уже в 70-х годах ряд книг и журналов
печатались таким образом.
Фонетическая транскрипция употребляется,
обычно, либо в научно-исследовательской работе, либо в
преподавании языков, но ни один народ в Европе не заменял ею
своего исторически сложившегося алфавита.
В 1895 г., Науковое Товарнство им. Шевченко,
при поддержке народовских лидеров Гардера и Смаль-Стоцкого,
ходатайствует в Вене о введении фонетической орфографии в печати
и в школьном преподавании. Мотивировка ходатайства была такова,
что заранее обеспечивала успех: Галиции «и лучше и безопаснее не
пользоваться тем самым правописанием, какое принято в России».
Москвофильская партия, представлявшая
большинства галицийского населения, подняла шумный протест,
требуя сохранения прежней орфографии. Но венское правительство
знало, что ему выгоднее. Победило народовское меньшинство и с
1895 г. в Галиции и Буковине министерство народного просвещения
официально ввело «фонетику». Даже поляк Воринский (далеко не
русофил) назвал это «чудовищным покушением на законы
лингвистики»
180.
В недавно появившемся очерке жизни и
деятельности доктора А. Ю. Геровского рассказано, какими грубыми
полицейско-административными мерами насаждалось фонетическое
правописание в Буковине и в Закарпатской Руси
181.
Что же до галицийской читающей публики, то
она, как рассказывает И. Франко, часто возвращала газеты и
журналы с надписями: «Не смийте мени присылати такой огидной
макулатуры». Или: «Возвращается обратным шагом к умалишенным»
182.
***
Правописание, впрочем, не главная из реформ
задуманных Науковым Товариством. Вопрос стоял о создании заново
всего языка. Он был камнем преткновения самых пылких
националистических страстей и устремлений. Как в России, так и в
Австрии самостийническая интеллигенция воспитана была на
образованности русской, польской, немецкой и на их языках.
Единого украинского языка, даже разговорного, не существовало.
Были говоры, порой, очень сильно отличавшиеся друг от друга, так
что жители отдельных частей соборной Украины не понимали один
другого.
Предметом самых неустанных забот, впрочем,
был не разговорный, а литературный язык. Малороссия располагала
великолепным разработанным языком, занявшим в семье европейских
языков одно из первых мест. Это русский язык. Самостийники
злонамеренно, а иностранцы и некоторые русские по невежеству,
называют его «великорусским».
Великорусского
литературного языка не существует, если не считать народных
песен, сказок и пословиц, записанных в ХVIII - ХIХ веке. Тот,
который утвердился в канцеляриях Российской империи, на котором
писала наука, основывалась пресса и создавалась художественная
литература, был так же далек от разговорного великорусского
языка, как и от малороссийского. И выработан он не одними
великоруссами, в его создании принимали не меньшее, а может быть
большее участие малороссы. Еще при царе Алексее Михайловиче в
Москве работали киевские ученые монахи Епифаний Славинецкий,
Арсений Сатановский и другие, которым вручен был жезл
литературного правления. Они много сделали для реформы и
совершенствования русской письменности. Велики заслуги и
белоруса Симеона Полоцкого. Чем дальше, тем больше юго-западные
книжники принимают участие в формировании общерусского
литературного языка — Дмитрий Ростовский, Стефан Яворский,
Феофан Прокопович. При Петре наплыв малороссов мог навести на
мысль об украинизации москалей, но никак не о русификации
украинцев, на что часто жалуются самостийникн.
Южно-русская
письменность в ХVII веке подверглась сильному влиянию Запада и
восприняла много польских и латинских элементов. Все это было
принесено в Москву. В свою очередь, киевские книжники не мало
заимствовали от приказного московского языка, послужившего
некоторым противоядием против латинизмов и полонизмов.
Получившееся в результате языковое явление дало повод львовскому
профессору Омеляну Огоновскому утверждать, будто реформаторская
деятельность малороссийских книжников привела к тому, что уже
«можно было не замечать никакой разницы между рутенским
(украинским) и московским языками»
183.
Еще в 1619 г. вышла в Евью та грамматика
этого языка, написанная украинским ученым Мелетием Смотрицким,
по которой свыше полутора столетий училось и малороссийское, и
московское юношество, по которой учились Григорий
Сковорода и Михайло Ломоносов. Ни тому, ни другому не приходило
в голову, что они обучались не своему, а чужому литературному
языку. Оба сделали крупный вклад в его развитие. В Московщине и
на Украине, это развитие представляло один общий процесс. Когда
стала зарождаться светская поэзия и проза, у писателей тут и там
не существовало иной литературной традиции, кроме той, что
начинается с Нестора, с митрополита Иллариона, Владимира
Мономаха, Слова о Полку Игореве, «житий», «посланий», той
традиции, к которой относятся Максим Грек, Курбский и Грозный,
Иоанн Вишенский и Исаия Ковинский, Мелетий Смотрицкий и Петр
Могила, Епифаний Славинецкий и Симеон Полоцкий, Ин. Гизель
с его «Синопсисом», Сильвестр Медведев и Дмитрий Ростовский.
Когда Богданович писал «Душеньку», Капнист «Ябеду» и «Оду на
рабство», когда Гнедич переводил Илиаду — они создавали
«российскую», но отнюдь не москальскую словесность. Ни Пушкин,
ни Гоголь не считали свои произведения достоянием
«великорусской» литературы. Как до, так и после Гоголя, все
наиболее выдающееся, что было на Украине, писало на общерусском
литературном языке. Отказ от него означает духовное ограбление
украинского народа.
В самом деле,
если уже в ХVII и ХVIII веках не было разницы между украинским и
московским, как утверждает О. Огоновский, то не означает ли это
существования языкового единства? Выбрасывая за борт московский,
можно ли было не выбросить украинского? Полонофильствующее
народовство готово было выбросить что угодно, лишь бы не
пользоваться тем же языком, что Россия, а украинцы «со всхода»
слишком страдали комплексом национальной неполноценности, чтобы
не поддаться этому соблазну. Их не отрезвил, даже, пример
Германии и Австрии, Франции и Бельгии, Испании и Южной Америки,
чьи независимые государства существовали и существуют несмотря
на общность языков.
Началось
лихорадочное создание нового «письменства» на основе
простонародной разговорной речи, почти сплошь сельской. Введение
ее в литературу — не новость. Оно наблюдалось еще в ХVII веке у
киевского монаха Оксенича-Старушича, переходившего иногда в
своих устных и письменных проповедях на простонародную мову. Так
делал в ХI веке и новгородский епископ Лука Жидята.
Практиковалось это в расчете на большую понятность проповедей.
«Энеида» Котляревского написана, как литературный курьез,
Квитка-Основьяненко, Гулак, Марко Вовчек — не более как «опыты»,
не претендовавшие на большую литературу и не отменявшие ее. Они
были экзотикой и лишь в этой мере популярны. Не для отмены
общерусской письменности упражнялись в сочинениях на «мове» и
столпы украинского возрождения — Костомаров, Кулиш, Драгоманов.
У первых двух это объяснялось романтизмом и к старости прошло. У
Костомарова не только прошло, но превратилось в род страха перед
призраком намеренно сочиненного языка. Такой язык не только
задержит, по его мнению, культурное развитие народа, но и души
народной выражать не будет. «Наша малорусская литература есть
исключительно мужицкая», — замечает Костомаров, имея ввиду
Квитку, Гулака-Артемовского, Марко Вовчка. И «чем по языку ближе
малороссийские писатели будут к простому народу, тем менее
станут от него отдаляться, тем успех их в будущем будет вернее».
Когда же на язык Квитки и Шевченко начинают переводить
Шекспиров, Байронов, Мицкевичей — это «гордыня» и бесполезное
занятие. Интеллигентному слою в Малороссии такие переводы не
нужны, «потому что со всем этим он может познакомиться или в
подлинниках или в переводах на общерусский язык, который ему так
же хорошо знаком, как и родное малорусское наречие». Простому
мужику это еще меньше нужно; он вообще не дорос до чтения
Шекспира и Байрона, а для перевода этих авторов не хватает в его
языке ни слов, ни оборотов речи. Их нужно заново создавать. К
такому же обильному сочинительству слов должны прибегать и те
авторы, что желают писать по малороссийски для высокоразвитого
образованного читателя. В этом случае отступление от народного
языка, его искажение и умерщвление неизбежно. «Любя малорусское
слово и сочувствуя его развитию, — заявляет Костомаров,— мы не
можем, однако, не выразить нашего несогласия со взглядом
господствующим, как видно, у некоторых малорусских писателей.
Они думают, что при недостаточности способов для выражения
высших понятой и предметов культурного мира, надлежит для успеха
родной словесности вымышлять слова и обороты и тем обогащать
язык и литературу. У пишущего на простонародном наречии такой
взгляд обличает гордыню, часто суетную и неуместную. Создавать
новые слова и обороты — вовсе не безделица, если только их
создавать с надеждою, что народ введет их в употребление. Такое
создание всегда почти было достоянием великих дарований, как это
можно проследить на ходе русской литературы. Много новых слов и
оборотов вошли во всеобщее употребление, но они почти всегда
появлялись вначале на страницах наших лучших писателей, которых
произведения и по своему содержанию оставили по себе бессмертную
память. Так, много слов и оборотов созданы Ломоносовым,
Карамзиным, Жуковским, Пушкиным, Гоголем... Но что сталось с
такими на живую нитку измышленными словами, как «мокроступы»,
«шарокаталище», «краткоодежие», «четвероплясие» и т. п.? Ничего
кроме позорного бессмертия, как образчика неудачных попыток
бездарностей! С сожалением должны мы признаться, что современное
малорусское писательство стало страдать именно этой болезнью и
это тем прискорбнее, что в прежние годы малорусская литература
была чиста от такой укоризны. По крайней мере, у Квитки,
Гребенки, Гулака-Артемовского, Шевченко, Стороженко, Марко
Вовчка, едва ли найдется что ни будь такое, о чем бы можно было
с первого раза сказать, что малорусе так не выразится»
184.
Неодобрительно относился к искусственному
создание «литерацкой мовы» и Драгоманов, несмотря на то, что был
одним из самых горячих протестантов запретительного указа 1876
года. Никто кроме него же самого не представил эти протестующие
жесты в более невыгодном свете. В своих «Листах до
надднипрянской Украини», писанных в 1893 г., за два года до
смерти, он делает такие признания, обойти которые здесь
невозможно
185.
Он рассказывает, что еще в 1874-1875 г., в Киеве, задумано было
издание серии популярных брошюр энциклопедического характера, на
украинском языке. За дело принялись горячо и на квартире у
Драгоманова каждую неделю происходили совещания участников
предприятия. Но тут и выяснилось, что никто, почти, не умеет
писать по-украински. На этом языке печатались, до тех пор,
только стихи и беллетристика, но ни научной, ни публицистической
прозы не существовало. Первые опыты ее предприняты были лишь
тремя годами позднее в Женеве, где Драгоманов, в условиях полной
свободы, не стесняемый никакими правительственными
ограничениями, стал издавать журнал «Громаду». По его
собственному признанию, он совсем не собирался выпускать его
по-украински, и должен был сделать это только под давлением
кружков «дуже горячих украинцев», среди которых была не одна
зеленая молодежь, но люди солидные и ученые.
«И что ж? Как только дошло до распределения
статей для первых книг «Громады», сразу же послышались голоса,
чтобы допустить не только украинский, но и русский язык».
Драгоманов опять признается, что печатание журнала по-русски
было бы самым разумным делом, но он захотел поставить вопрос
«принципиально». Одной из причин такого его упорства было,
якобы, желание «спробувати силу щирости и энергии украинских
прихильникив» «Громады». И вот, как только удалось настоять на
печатании по-украински, началось остывание «дуже горячих».
Десять из двенадцати главных сотрудников журнала «не написали в
нем ни одного слова и даже заметки против моего «космополитизма»
были мне присланы одним украинофилом по-русски. Из двух десятков
людей, обещавших сотрудничать в «Громаде» и кричавших, что надо
«отомстить» правительству за запрещение украинской печати в
России, осталось при «Громаде» только 4. Двум из них пришлось
импровизированным способом превратиться в украинских писателей»
186.
Шум по поводу
запрета украинского языка был поднят людьми не знавшими его и не
пользовавшимися им. «Нас не читали даже ближайшие друзья, —
говорит Драгоманов. — За все время существования женевского
издательства я получал от самых горячих украинофилов советы
писать по-украински только про специальные краевые дела
(домашний обиход!), а все общие вопросы освещать по-русски». Эти
друзья, читавшие русские журналы «Вперед» и «Набат», не читали в
«Громаде» даже таких статей, которые, по мнению Драгоманова,
стояли значительно выше того, что печаталось в «Набате» и
«Вперед», — статей Подолинского, например. «Для них просто
тяжело было прочесть по-украински целую книжку, да еще
написанную прозой, и они не печатали своих статей по-украински
ни в «Громаде», ни где бы то ни было, тогда как часто печатались
по-русски». Такое положение характерно не для одних только 60-х
и 70-х годов, но наблюдалось в продолжении всего ХIХ века. По
свидетельству Драгоманова, ни один из украинских ученых
избранных в 80-х, 90-х годах почетными членами галицких
«народовских» обществ — не писал ни строчки по-украински. В 1893
г. он констатирует, что научного языка на Украине и до сих пор
не существует, «украинская письменность и до сих пор, как 30 лет
назад, остается достоянием одной беллетристики и поэзии»
187.
Нельзя не дополнить этих признаний
Драгоманова, воспоминаниями другого, очень почтенного малоросса,
профессора С. П. Тимошенко. Застрявший случайно, в 1918 г. в
Киеве, в короткое правление гетмана Скоропадского, он был близок
к только что созданной «Украинской Академии Наук». «По статуту —
пишет он, — научные труды этой академии должны были печататься
на украинском языке. Но на этом языке не существует ни науки, ни
научной терминологии. Чтобы помочь делу, при академии была
образована терминологическая комиссия и были выписаны из Галиции
специалисты украинского языка, которые и занялись изготовлением
научной терминологии. Брались термины из любого языка, кроме
родственного русского, имевшего значительную научную литературу»
188.
Положение, описанное Драгомановым для 90-х
годов, продолжало существовать и в 1918 году.
Эти высказывания великолепный комментарий к
указу 1863 г. «Малороссийского языка», на котором можно было бы
строить школьное преподавание, действительно не существовало и
Валуев не выдумал «большинства малороссов», которые протестовали
против его легализации. Гегемония русского литературного языка
меньше всего объясняется поддержкой царской полиции. Истинную ее
причину Драгоманов усматривает в том, что «для украинской
интеллигенции, так же как и для украинофилов, русский язык еще и
теперь является родным и природным». Он благодарит за это
судьбу, потому что «украинська публика, як бы зисталась без
письменства российского, то була б глуха и слипа». Общий его
вывод таков: «Российская письменность, какова бы она ни была,
является до сих пор своей, родной для всех просвещенных
украинцев, тогда как украинская существует у них для узкого
круга, для «домашнего обихода», как сказали Ив. Аксаков и
Костомаров»
189.
***
Вместе с вопросом о языке поднимался вопрос о
литературе. Разделить их невозможно. Раздельность существовала
лишь в точках зрения на этот предмет между малороссийским
украинофильством и галицким народовством. У первого, назначение
книг на «ридной мове» заключалось в просвещении простого народа,
либо в революционной пропаганде среди крестьян. Поколение же,
выпестованное народовцами, усматривает его не в плоскости
культуры, а в затруднении общения между русскими и малороссами.
Костомаров и Драгоманов требовали
предоставить язык и литературу самим себе; найдутся писатели и
читатели на «мове» — она сама завоюет себе место, но никакая
регламентация и давление извне не допустимы. Драгоманов часто
говорил, что пока украинская литература будет представлена
бездарными Конисскими или Левицкими, она неспособна будет
вырвать из рук малороссийского читателя не только Тургенева и
Достоевского, но даже Боборыкина и Михайлова. Культурное
отмежевание от России, как самоцель, представлялось ему
варварством.
Но уже в начале 90-х годов появляются
публицисты типа Вартового, который, обозвав русскую литературу
«шматом гнилой ковбасы», требовал полной изоляции Украины от
русской культуры. Всех, считавших Пушкина, Гоголя, Достоевского
«своими» писателями, он объявил врагами: «Кождый хто принесе
хочь крихту обмоскаленья у наш наряд (чи словом з уст, чи
книжкою) —робит йому шкоду, бо видбивае його вид национального
грунту»
190.
Уже тогда обнаружился один из приемов
ограждения национального грунта, приобретший впоследствии
широкое распространение. Проф. С. П. Тимошенко
191,
очутившись в эмиграции, захотел в 1922 г. навестить двух своих
братьев проживавших в Чехии, в Пади-Брадах. Пади-Брады были в то
время крупным центром украинской самостийнической эмиграции. Там
он встретил немало старых знакомых по Киеву. И вот оказалось,
что «люди, которых я давно знал и с которыми прежде общался
по-русски, теперь отказывались понимать русский язык». Школа
Вартового принесла несомненные плоды.
Напрасно думать, будто этот бандеровец того
времени выражал одни свои личные чувства. То же самое, только
гладко и благовоспитанно, выражено Грушевским в провозглашенном
им лозунги «полноты украинской культуры», что означало политику
культурной автаркии и наступление литературной эры
представленной Конисским и Левицким-Нечуем. Именно этим двум
писателям, пользовавшимся у своих товарищей-громадян репутацией
самых бездарных, приписывается идея «окремой» литературы. Писать
по-украински, с тех пор значило — не просто предаваться
творчеству, а выполнять национальную миссию. Человеку нашего
времени не нужно объяснять, какой вред наносится, таким путем,
истинному творчеству. Всюду, где литературе помимо ее прямой
задачи навязывается какая-то посторонняя, она чахнет и гибнет.
Этим, по видимому, и объясняется, почему после Шевченко не
наблюдаем в украинской письменности ни одного значительного
явления. Под опекой галичан, она стала, по выражению
Драгоманова, «украинофильской, а не украинской», т. е. —
литературой не народа, не нации, а только самостийнического
движения. Поощрение оказывалось не подлинным талантам, а
литературных дел мастерам, наиболее успешно выполнявшим
«миссию». Писательская слава Нечуя, Конисского, Чайченко —
создается галичанами; без них этим авторам никогда бы не
завоевать тех лавров, что совершенно незаслуженно выпали на их
долю. Про Конисского сами современники говорили, что его
известность — «плод непоразуминня в галицо-украинских
видносинах».
Но именно, галицкая наука возвестила о
существовании многовековой украинской литературы. В конце 80-х
годов появился двухтомный труд посвященный этому предмету
192.
Автор его, Омелян Огоновский, может считаться создателем схемы
истории украинской литературы. Ею до сих пор руководствуются
самостийнические литературоведы, по ней строятся курсы,
учебники, хрестоматии.
Затруднение
Огоновского, как и всех прочих ученых его типа, заключается в
полном разрыве между новой украинской литературой, и литературой
киевских времен, объявленной самостийниками тоже украинской. Эти
две разные письменности ни по духу, ни по мотивам, ни по
традициям ничего общего между собою не имеют. Объединить их,
установить между ними преемственность, провести какую нибудь
нить от «Слова о Полку Игореве» к Квитке Основяненку, к Марко
Вовчку или от Игумена Даннила, от Митрополита Иллариона и
Кирилла Туровского к Тарасу Шевченко — совершенно невозможно.
Нельзя, в то же время, не заметить доступную даже неученому
глазу прямую генетическую связь между письменностью киевского
государства и позднейшей общерусской литературой. Как уладить
эти две крупные неприятности? Отказаться совсем от
древне-киевского литературного наследства значит отдать его
окончательно москалям. Это значило бы отказаться и от пышной
родословной, от великодержавия, Владимира, Ярослава, Мономаха
пришлось бы вычеркнуть из числа своих предков и остаться с
одними Подковами, Кошками и Наливайками. Но принять киевское
наследство и превознести его — тоже опасно. Тогда непременно
возник бы вопрос — откуда взялся украинский литературный язык
ХIХ века и почему он находится в таком противоречии с эволюцией
древнего языка?
|
|
|
|
Стр.10
|
|
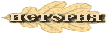 |
|
|
|
|
|
|